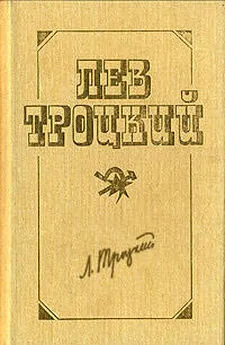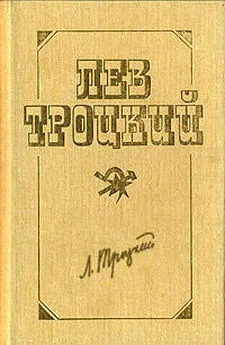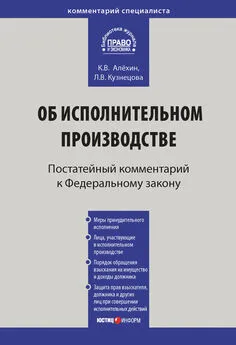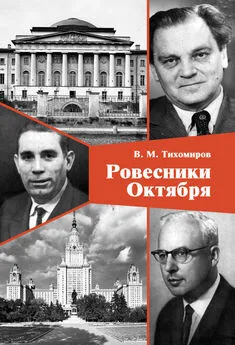Любовь Кабо - Ровесники Октября
Тут можно читать онлайн Любовь Кабо - Ровесники Октября - бесплатно
полную версию книги (целиком) без сокращений.
Жанр: Русская классическая проза.
Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст)
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Ровесники Октября
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Любовь Кабо - Ровесники Октября краткое содержание
Ровесники Октября - описание и краткое содержание, автор Любовь Кабо, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Ровесники Октября - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Ровесники Октября - читать книгу онлайн бесплатно, автор Любовь Кабо
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
.." 2. ЖЕНЬКИН КОРАБЛЬ Как все мои одноклассники и друзья, я привычно отмахивалась, когда в жизнь вторгалась какая бы то ни было сложность. Никаких этих сложностей - жизнь проста, как запомнившаяся обложка одного из пионерских сборников: половина - красная, половина - белая. На красной половине - пионер со знаменем и с пионерским горном, на белой - чистенькие, никчемные буржуйские дети. Красное и белое, только так. Наше - и не наше. Незыблемое мировоззрение, основа основ. Наш дом стоял чуть в стороне от вокзальной площади: несколько заново оштукатуренных двухэтажных бараков, - раньше тут жили рабочие чаеразвесочной Перлова. Белые, веселые, особенно летом, в тени тополей, корпуса эти производили впечатление каменных. В двух из них и были поселены в середине двадцатых годов преподаватели и профессора одного из Коммунистических университетов. В глубине двора стояли еще корпуса, уже не оштукатуренные, была волейбольная площадка, летом цветник, тянулись дровяные сараи. Здесь, на сброшенных у сараев досках, я еще в прошлом году собирала ребятишек со всего двора и играла с ними в гражданскую войну и в благородных разбойников: куда-то мы ходили гуськом по высоким сугробам. Прямо под окнами, за деревянным забором, тяжело дышала московская биржа труда. Масса пришлого люда, в сермягах и лаптях, с топорами за поясом, со спеленутыми пилами и холщовыми мешками, с утра и до темноты гудела, качалась, ворочалась. На дощатых трибунах, разбросанных по всему двору, то и дело появлялись какие-то люди, взмахивали списками. Толпа с ревом обрушивалась на эти трибуны. Мелькали названия дальних строек: "Магнитогорск", "Березняки", "Турксиб", "Кузбасс" - все то, что позднее появилось в газетах, загремело в рапортах и победных сводках. Здесь, под нашими окнами, было начало: вербовщики, словно умоляя о пощаде, срывающимися голосами заклинали толпу, равно готовую и к ликованию, и к самосуду. Вечерами эту толпу поглощало стоящее поодаль угрюмое здание "Ермаковки". Огромная ночлежка не могла вместить всех, множество людей располагалось у стен ее, в палисаднике, прямо на тротуаре. Ходить по переулку становилось непросто, опасно даже: вся эта масса необихоженного, бездомного люда была к вечеру пьяным-пьяна, тем более что пивная была рядом. Зато двор биржи на какое-то время пустел, только мусор шелестел между трибунами. И вся женькина команда устремлялась туда и носилась в салочки на просторе, а сама Женька влезала на какую-либо из трибун и обращалась к малышам с зажигательной речью... И тут я вынуждена на секунду себя прервать: "Женькина команда", какая-то Женька - вдруг! Пусть читатель меня извинит: все-таки гораздо легче и проще писать о себе в третьем лице и под чужой фамилией - да и о своих близких тоже. Итак, Женька. Женька Семина. Женька могла часами стоять у окна. Ей казалось, что дом ее вовсе не дом, а корабль, мчащийся по крутым и сильным волнам, и людские волны эти могут каждую секунду перехлестнуть через деревянный забор, затопить неширокий их двор, хлынуть в окна. Даже жутко становилось и радостно. Потому что здесь, сейчас творилась сама история, все это Женька, вовсе не умевшая думать, чувствовала инстинктивно - сама история билась под окнами в облике этих людей, одичавших от матерной брани. И Женькин отец нервничал, что шум мешает ему готовиться к лекциям, - как будто шум может кому-нибудь мешать! - и раздраженно задергивал легкие полотняные шторы. А корабль плыл. Под полотняными парусами! Корабль торжествующе вершил плавание свое - не в пространстве - во времени... Здесь, на корабле, все было общим - так постановили жильцы: разумные люди - так они полагали - и жизнь свою в силах организовать разумно. На кухне, в глубине длинного коридора, священнодействовала общая кухарка. Общая воспитательница гуляла с Женькиным братишкой и другими детьми. Раз в неделю являлась общая прачка. По вечерам приходил дворник Барабаш из четвертого корпуса, топил восемь голландок наверху и восемь внизу: весело трещали дрова, в коридоре становилось тепло и как-то особенно уютно, и гости Ковалевских выходили в коридор и разгуливали вдоль него в обнимку. У молодых, жизнерадостных Ковалевских было много родных, еще больше друзей: они вечно толпились здесь - врачи, инженеры, геологи. Казалось, что гости эти - тоже общие. Напротив Семиных дверь в дверь, жила библиотекарша Софья Евсеевна, прямолинейная, энергичная, с неженственной повадкой подчеркнуто аскетичного, глубокого партийного человека, занятого исключительно общественными делами. Жила она вдвоем со своим младшим, Фимой, но по воскресеньям сходились все ее взрослые сыновья со своими женами и детьми, начинали влюбленно вышучивать Софью Евсеевну, друг друга, соседей, подвернувшихся под руку: Софья Евсеевна молодела, хорошела, словно электрическую лампочку в ней включали, горделиво сияла, воплощая в себе беспринципнейшее, надклассовое материнство. А в коридоре вовсе было не протолкаться. Еще в квартире жил настоящий турок Рахмет со своей семьей. Он ходил по коридору в халате и домашних туфлях, прижимаясь к стене, словно прячась в короткой тени, как ходили его родичи по раскаленным улицам Стамбула. Жил научный работник Гвоздёв, замкнутый и неразговорчивый; жил другой научный работник, Володя Гончаренко, общительный и веселый. Володя то и дело менял жен, и каждая последующая была моложе и красивее предыдущей. В конце коридора, против кухни, жил университетский врач с великолепной фамилией Беринг: у Берингов были расстелены на полу толстые ковры, а в углу стояла мраморная Венера. Женьку, помнится, всегда поражало несоответствие всего их легкого быта, стремительно несущегося куда-то, и этой мраморной фигуры, символизирующей в ее глазах покой, отрешенность, чуть ли не буржуазность. Ничего подобного не было ни у кого в целом доме. Не было быта! Словно все эти люди, переселявшись сюда, быстро разбросали по комнатам первую попавшуюся мебель: железные кровати с шишечками и без шишечек, учрежденческие шкафы, венские стулья с вечно отлетающими сиденьями, бережно расставили по стеллажам книги в дешевых бумажных обложках, с подслеповатой печатью первых послереволюционных лет - первые собственные книги! - повесили над столами портреты Ленина, читающего "Правду", или Ленина, выступающего трибуны, и, сделав все это, раз навсегда покончили с мыслями о дальнейшем своем устройстве. Мир был гармоничен и светел и не слишком далеко ушел от тех самых представлений: белое, красное, наше, не наше... Самый воздух, каталось, был наэлектризован надеждами. Не терпелось как можно больше сделать, как можно больше пользы принести первому в мире рабоче-крестьянскому государству, - какой тут, действительно, к чертям собачьим быт!.. Очень Женька все это чувствовала. Она могла идти куда угодно - в редкие дни, когда мысли ее и время не поглощала школа, в собственных стенах и за их пределами - всюду был родной дом. Можно идти к Ковалевским звонить по телефону, если почему-нибудь не хочется звонить из кабинета отца, и мешать племяннице Ковалевских Майке готовиться к поступлению на рабфак. Можно сидеть с ногами на подоконнике Софьи Евсеевны и слушать рассказы Фимы о его фиговой сто седьмой, которой сроду не сравняться, конечно, с Женькиной опытно-показательной. Можно выпить чашечку настоящего турецкого кофе у жены Рахмета Биби или часами листать золоченые тома Байрона и Шекспира на диване у Берингов. Господи, да мало ли возможностей в такой пестрой, густонаселенной квартире! А ведь внизу еще квартира и еще человек тридцать народу. Собственно, все ребята из Женькиной команды жили внизу, и всем им появление Женьки только льстило. ...Женька очень любила семейный рассказ о том, что родилась в самый, казалось бы, неподходящий для этого год - в семнадцатый! - и как отец нес ее из родильного дома по улицам, запруженным революционной толпой. И только одно было ей досадно - всерьез! - что были это февральские, а не те самые октябрьские, единственно героические дни...Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать