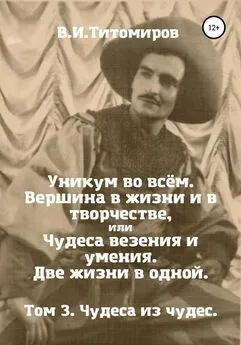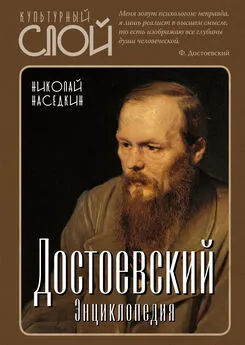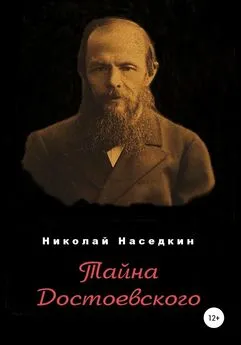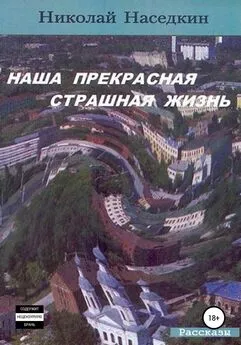Николай Наседкин - Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве)
- Название:Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Наседкин - Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве) краткое содержание
Самоубийство Достоевского (Тема суицида в жизни и творчестве) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наброски, фрагменты, образы, сюжетные ходы из планов-разработок "Жития великого грешника" были использованы писателем в "Бесах", "Подростке" и в "Братьях Карамазовых", о чём речь у нас пойдёт далее. Пока же отметим, что уже на стадии замыслов герой, предвосхищающий Ставрогина, обречён-приговорён автором, по крайней мере, - на попытку самоубийства. И опять же этот сюжетный ход помечается знаком "заметь хорошо": "NB) Застрелиться хотел..." (-10, 325)
Такие, как Ставрогин, жить на свете не имеют права.
Часть
третья
Глава VII
Бесы, или Возвращение домой
1
Да, начнём со Ставрогина.
Хотя, в соответствии с нашей терминологией, главным самоубийцей в "Бесах" (да и вообще во всём творчестве Достоевского!) является, безусловно, Кириллов, вначале присмотримся всё же к суицидальному портрету главного и, даже можно сказать, заглавного героя романа - Николая Всеволодовича Ставрогина.
К тому же, Кириллов и в предварительно-подготовительных материалах появляется не сразу, прообраз же, или лучше сказать - тень Ставрогина возникает-утверждается ещё на этапе замыслов "Романа о князе и ростовщике", "Жития великого грешника" и особенно - "Зависти". И уже в данных вариантах наличествует мотив самоубийства данного героя. Этот сюжетный ход по мере разработки подробного плана подтверждается, уточняется, всё более обосновывается. В февральских (1870 г.) записях Князь (ещё так!), "внешне пустой и легкомысленный человек", оказывается "глубже всех" и "он-то вдруг и застреливается..." Словечко "вдруг" здесь - автора, Достоевского. Но уже в марте уточняется, что застреливается-то Князь "неожиданно", однако ж причину самоказни сам должен был объяснить в предсмертном письме-исповеди: "Я открыл глаза и слишком много увидел и - не вынес, что мы без почвы..." К тому же, перед этим в разговоре с Шатовым он признаётся, что не верует в Бога. А Шатов ему должен был объяснить, что космополит и не может веровать в Бога и что надо вернуться к "почве", к народу, тогда и спасительная вера в душе обретена будет.
Тема - кардинальная, капитальнейшая для Достоевского. Но, по существу, на данном этапе, как видим, Князь ближе к самоубийце-философу Кириллову, чем к Ставрогину. Нет ещё главной составляющей образа демонического героя - сверхцинизма от безверия, наклонности к преступлению, к переступлению черты. В майских записях появляется мотив "скуки", понимаемой как бесцельность жизни человека, "оторванного от почвы". Уже после самоубийства Князя Хроникёр говорит-комментирует, что в добровольной смерти его видит "сильнейшую логическую последовательность (т. е. оторванность от почвы, некуда деться, скучно, думал воскресить себя любовью, впрочем не очень, даже к Нечаеву приглядывался и застрелился)".
Чуть позже появляется в рабочей тетради и главное слово-определение бесовства главного героя - "обворожителен, как демон" и тут же подтверждается, что он непременно должен "от безверия" повеситься. И, наконец, в августе уже чётко обозначено-прописано в плане, что Ставрогин (фамилия крестная197 уже есть) совершил преступление, от наказания улизнул, "но сам повесился"... (11, 119-209)
Ещё раз, поморщившись, вспомним безобразные строки из письма Страхова к Л. Толстому: "Его (Достоевского. - Н. Н.) тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. (...) Лица, наиболее на него похожие, - это герой "Записок из подполья", Свидригайлов в "Преступлении и наказании" и Ставрогин в "Бесах". Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать..."198
Как видим, сопоставление автора, в частности, со Ставрогиным идёт сразу вслед за сплетней из вторых рук о мифической похвальбе писателя своим педофильством, а завершается подловатый абзац-пассаж намёком, что-де и Катков этому безоговорочно верил. Страхов был человек, в данном случае, злопамятный и даже просто злой, но далеко не глупый. Близость этих героев к автору подметил-уловил он проницательно, только, видимо, сознательно, из чувства мести (ему, как уже упоминалось, стала известна весьма нелицеприятная запись-характеристика о нём из архива покойного писателя, где Достоевский называет его скверным семинаристом, лицемером, втайне сладострастным и продажным человеком, покрытым "грубой корой жира" и склонным к гадостям...199) попытался полностью отождествить автора с героями в якобы сходной страсти к "пакостям".
Отослав 7 /19/ октября 1870 года начальные главы "Бесов" в редакцию "Русского вестника", Достоевский вслед, на следующий день, шлёт письмо, адресованное персонально Каткову. Разумеется, одна из главных целей послания заключена в его финальных строках - просьбе о новом 500-рублёвом авансе, - но ещё важнее основной текст с авторской трактовкой замысла, содержания всего романа и его главных героев. И вот что сказано здесь о Ставрогине: "...тоже мрачное лицо, тоже злодей (как и Пётр Верховенский, о котором речь в письме шла ранее. - Н. Н.). Но мне кажется, что это лицо трагическое (...). Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. (...) Я из сердца взял его..." (291, 142)
Л. И. Сараскина в своём капитальном исследовании романа "Бесы" "Фёдор Достоевский. Одоление демонов" точно подметила некое противоречие в замысле и исполнении ещё на уровне подготовительных материалов: "Князь А. Б. был ?взят из сердца?, но при этом приговаривался к самоубийству..."200 Противоречие это сохранилось, как мы знаем, до конца и воплотилось в окончательном варианте романа.
Ещё в 1920-е годы некоторые исследователи (Л. П. Гроссман, Вяч. Полонский, В. Р. Лейкина) отмечали, что в образе Ставрогина воплотились отдельные черты-штрихи личности товарища-соратника Достоевского времён "петрашевской" юности Н. А. Спешнева201. В своём исследовании Л. И. Сараскина весьма убедительно доказывает, что Спешнев был главным и, по существу, единственным прототипом Ставрогина. К Спешневу будущий автор "Бесов" относился, можно сказать, восторженно, ощущая его демоническую силу. В аннотации к книге Л. И. Сараскиной приведено суждение Н. А. Бердяева, которое как бы подтверждает мнение-вывод исследовательницы о тождественности Спешнева и Ставрогина в восприятии самого Достоевского: "Он (Достоевский. - Н. Н.) романтически влюблён в своего героя, пленён и обольщён им. Никогда ни в кого он не был так влюблён, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин - слабость, прельщение, грех Достоевского..." Сараскина и посвятила свою книгу исследованию-доказательству, что именно Спешнев и был в жизни для молодого Достоевского "слабостью" и "прельщением". (К слову, в последнее время появилось "исследование" нового "достоевсковеда-циника", некоего Парамонова, в котором эмоциональное высказывание-суждение Бердяева доводится до абсурдно-мерзкой идеи о якобы гомосексуальной связи между Спешневым и Достоевским202. Что ж, судя по всему, этот Парамонов - достойный ученик Страхова, научившийся свои гнусные пороки приписывать великим...)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: