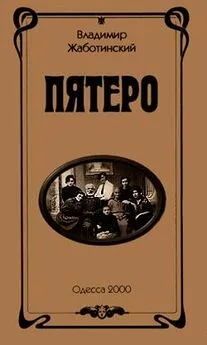Владимир Жаботинский - Пятеро
- Название:Пятеро
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Друк
- Год:2000
- Город:Одесса
- ISBN:966-7487-31-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Жаботинский - Пятеро краткое содержание
Роман Владимира Жаботинского «Пятеро» — это, если можно так сказать, «Белеет парус одинокий» для взрослых. Это роман о том, как «время больших ожиданий» становится «концом прекрасной эпохи» (которая скоро перейдет в «окаянные дни»…). Шекспировская трагедия одесской семьи, захваченной эпохой еврейского обрусения начала XX века.
Эта книга, поэтичная, страстная, лиричная, мудрая, романтичная, веселая и грустная, как сама Одесса, десятки лет оставалась неизвестной землякам автора. Написанный по-русски, являющийся частью русской культуры, роман никогда до сих пор в нашем отечестве не издавался. Впервые он был опубликован в Париже в 1936 году. К этому времени Катаев уже начал писать «Белеет парус одинокий», Житков закончил «Виктора Вавича», а Чуковский издал повесть «Гимназия» («Серебряный герб») — три сочинения, объединенные с «Пятеро» временем и местом действия. В 1990 году роман был переиздан в Израиле, в издательстве «Библиотека Алия», ориентирующемся на русскоязычную диаспору.
Пятеро - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я почти застонал: гнев мой давно прошел, осталась только тупая, тяжелая боль. Я сказал:
— Вы говорите так, как будто теперь вы нищий.
— Я и есть нищий. Куда плывут у меня деньги, сам не знаю. Выпил кофе за четвертак, ничего не купил, а ушло пять рублей. Тоже черта той дамочки: легче далась бы черная магия, чем арифметика собственного кошелька. Это и значит «нищий»: тот, у которого над душой каждую секунду висит гнусная, подлая забота — где достать? Для дамочки это просто: потерлась плечиком о плечо отца, или мужа, или друга и попросила умильно: дай! Пусть иногда откажет — но хоть не стыдно. А на мне галстук и брюки, я числюсь мужчиной. Папа c'est un chic type [166], сам приносит конверт 1-го и 15-го, а мне это — как хлыстом по лицу. Никудышный я; пропаду все равно, не стоит хлопотать.
Мы оба молчали; вдруг он заговорил бодрее, и аккомпанемент на рояле зазвучал громче:
— Между прочим: этот подвиг с Авраамием в моей биографии первый. Вдруг осенило. И денег его я пока не тронул; собственно потому, что не привык еще как-то принимать ассигнации из рук моего друга Моти Банабака — привык наоборот. Предрассудок…
Он повернулся к роялю и стал наигрывать внимательнее, что-то бормоча, потер лоб одной рукою, нахмурил брови, кинул мне рассеянно:
— Простите… — и опять запел, сначала вполголоса, но со второй строчки уверенно:
А четвертый… Но из драмы
Надо вычеркнуть кусок,
Чтоб, узнав, и наши дамы
Не сбежали в тот лесок.
И он совершенно преобразился. Отпихнулся ногой, три раза перекрутился вместе с табуретом, удержался против меня: его лицо сияло подлинной беспримесной радостью, он с силой провел ногтем большого пальца по всей клавиатуре с диэзами и бемолями и закричал:
— Готово! Нравится?… И вы не тужите: во второй раз обещаю вам честно — ни-ни. Этого — ни-ни; не хочу вас отпустить опечаленного. А пропасть — пропаду.
XXIII
В ГОСТЯХ У МАРУСИ
Еще только раз увидел я Марусю (хотя и после того однажды поехал к ней в гости и опоздал). У меня была в Аккермане [167]лекция, и оттуда Самойло с Марусей увезли меня через лиман к себе в Овидиополь.
Чуть было не написалось: «я ее не узнал». Это была бы неправда: Маруся ни на пушинку не изменилась. «Не узнал» я не ту Марусю, которую прежде знал, а ту новую, которую подсознательно рассчитывал найти в этой новой обстановке. До встречи я, по-видимому, думал так: ей теперь чего-то не достает, к чему она привыкла, — следовательно, я в ней замечу какой-то голод. Оказалось — ничего не оказалось.
Ни на волосок она не изменилась. Разве что стала очень деловитой домоправительницей, но это не было неожиданностью, все мы всегда знали, что Маруся, за что бы ни взялась, будет мастерицей. Несколько лет тому назад она раз пришла ко мне, всплеснула руками при виде беспорядка (а по-моему, никакого не было беспорядка), дала мне пощечину, повязала волосы платочком, повозилась два часа, все подмела, перетерла, передвинула, повыкидала все женские фотографии («и набрал же мальчик галерею крокодилов!»), кроме двух подлинно хорошеньких и своей собственной («по моему, я самая лучшая»); и получился такой рай, что мне жаль было после того мыть руки в умывальнике — она так уютно прикрыла кувшин полотенцем. Не чудо, что у нее дома оказалось еще лучше; и что горничная понимала ее с полуслова, и что обед был вкусный и на столе цветы, и что ребенок был счастливый, розовый и для своих восемнадцати месяцев благовоспитанный. Даже то не чудо, что Самойло стал человечнее, уж не так неуклюж и угловат: я этому совсем не удивился, значит и это подсознательно предвидел, издавна зная, как Маруся покоряет людей.
Неожиданным оказалось вот что: она говорила, смеялась и светилась точь-в-точь, как в самые первые годы нашего знакомства, до той тревоги из-за Руницкого. Перед вечером пришли к ним гости, какой-то грек-сосед с женою, которую звали Каллиопа Несторовна, а муж был, по-видимому, владелец баштанов [168]в окрестности; и немец-аптекарь из Гросс-Либенталя [169], приехавший на собственной бричке, тоже привез жену и двух красавиц дочек, степенных и глупых. Говорили об огурцах и арбузах, о скарлатине и земском враче: т. е., в сущности, о такой же обыденщине, о какой во дни оны шла, бывало, болтовня в гостиной у Анны Михайловны, — только все же там, во дни оны, темы обыденщины были рангом выше, там чувствовалась близость большого театра, четверги в литературке, университет. Но Маруся и тут была, как рыба в воде: ни одного ложного тона, всем было по себе, вся комната опять звенела ее колокольчиками: точно тут родилась и выросла Маруся и ничего ей другого не нужно.
Я присмотрелся, как она себя держит с мужем и ребенком: нечего было присматриваться, ничего нового. С Самойло она говорила, как когда-то со мною или с теми белоподкладочниками: когда о пустяках — задорно, а когда о деле — деловито. С ребенком возилась ровно столько, сколько нужно было, раз нету няньки, но как-то не было впечатления, чтобы «нянчилась»; прикрикивала, шутила, когда ушибся — приласкала, но ничуть не нежничала; а когда заснул, искренно сказала: «Уф! здорово вы мне надоели, Prince Charmant [170]; сто рублей дам, если не проснетесь до половины пятого»; потянулась, схватила меня за руку и увела в сад, прибавив:
— Ступай в аптеку, Самойло, нам не до тебя: мы продолжим наш роман.
Я провел у них двое суток и все время, как собачка, ходил по дому и садику за Марусей. С утра она надевала тоненькую цветную распашонку: она ее называла «балахон» и уверяла, что в этом наряде удобнее варить что-то такое для ребенка, хотя мне все время казалось, что вот-вот загорятся о пламя керосинки широкие висячие рукава. Ибо и на кухню я ходил за нею: «кум-пожарный при кухарке», смеялась она. Накормив сына, она повязала рыжие волосы платочком, надела передник и прибрала с горничной квартиру, а я помогал — лично стер пыль с глянцевитой рамы зеркала; но с шероховатых поверхностей отказался, и Марусе не дал, потому что все равно не видно. И она, хлопоча, все время щебетала, называла меня бездарностью и смеялась, по-прежнему немного хрипло.
— Не разберу, Маруся: изменились вы или нет?
Она подумала и решила, что только в одном отношении да. Она мне напомнила: давно, когда раз я «прочел ей нотацию» за слишком вольный язык, она мне объяснила свою классификацию неприличностей. Есть неприличности, которых детям знать нельзя; и есть та категория, которую детям знать не только разрешается, но даже неизбежно. В обществе, где есть и мужчины, и женщины, «детские» неприличности строго воспрещены, это дурной тон; но те, что не для детей, — пожалуйста.
— А теперь, — призналась она, — я могу нечаянно порадовать вас и анекдотом из категории младенческих вольностей; хотя постараюсь воздержаться. Трудно, понимаете, когда весь день с полуторагодовалым малышом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: