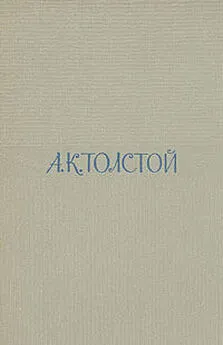Николай Некрасов - Том 7. Художественная проза 1840-1855
- Название:Том 7. Художественная проза 1840-1855
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1981
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Некрасов - Том 7. Художественная проза 1840-1855 краткое содержание
В седьмой том вошли прозаические повести и рассказы Некрасова, опубликованные при жизни автора. Хронологические границы тома — 1840–1855 гг. — охватывают период жизни писателя от первого неудачного выступления в литературе (поэтический сборник «Мечты и звуки») до несомненного признания, когда имя его утвердилось в истории русской поэзии (выход в свет «Стихотворений» 1856 г.). Таким образом, время большой и упорной работы Некрасова-прозаика стало и временем роста и совершенствования его поэтического таланта.
В данной электронной редакции опущен раздел «Другие редакции и варианты».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Художественная проза 1840-1855 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В самом веселом расположении проходил он но узким кирпичным тротуарам, попирая их с особенной силой, в надежде, что сапоги авось выскрыпятся и будут вести себя в гостиной будущего тестя прилично.
Нет сомнения, что веселость его, говоря цветистым слогом, была бы еще безоблачнее, если б не зеркальные стекла некоторых магазинов, заглянув в которые он тотчас отворачивался с неприятной гримасой и даже иногда испускал глубокий вздох.
Ничто не могло равняться презрению, с которым осматривал он проходящих, особенно тех, в которых замечал претензию на щегольство.
«В Москве еще носят бирюзовые запонки, — думал он, преследуя сатирическим взором предмет своих наблюдений, — а вот… ха! ха! ха! белые перчатки, шляпа, фрак и — фуражка! в столичном городе в фуражке!.. А вот… ну, отличился, отличился! пальто с иголочки, сапоги лакированные — и сережка в ухе… ха! ха! ха!.. Эх, Москва, Москва! матушка Москва, золотые маковки! Далеко тебе до Петербурга… Тише, ты, ротозей! не видишь!!!» — Последнее восклицание, произнесенное весьма резко и грозно, относилось к дюжему парию, тащившему на голове лоток вареных груш и чуть не окатившему их сыропом нашего героя.
— А ты сторонись, не видишь — с лотком иду! — прокричал разносчик.
— Ах ты, ах ты… — сердито возразил Хлыщов, и голоса у него не хватило. Честь его была глубоко оскорблена, он хотел догнать дерзкого и спросить, знает ли он, кому осмеливается грубить, как всегда делывал в подобных случаях; но вдруг рука его коснулась плаща, и он побледнел. Струи грязной жидкости бежали по бархатным отворотам и некоторые обнаруживали дерзкое намерение пробраться под плащ. Пока Хлыщов предупреждал их порывы, разносчик исчез. В то же время над головой Хлыщова послышался бойкий и довольно приятный женский смех.
Сдержав резкие выражения, которые готов был послать разносчику, Хлыщов поднял голову. Он находился против весьма длинного и грязного двухэтажного дома, во всю длину которого тянулась вывеска такого содержания: «Дирлинг и К о, красильщиков и пятновыводчиков из Парижа». В растворенном окно над вывеской виднелась женская головка замечательной красоты; рот незнакомки был полураскрыт, причем во всем блеске выказывался ряд ровных и беленьких зубов; живые глаза с детским любопытством у участием, даже больше — с любовью, устремлены были на Хлыщова. Хлыщов улыбнулся, показывая тем, что сам готов смеяться своему несчастию, и тотчас же убедился, что его высокий рост, важная осанка, блестящий наряд обворожили незнакомку… Нет никакого сомнения: победа совершена!
«Уж не зайти ли? — подумал он. — Тут, кажется, красильня. Будто что-нибудь выкрасить. Да ведь зачем пойдешь? Не такое время! А ну хоть бы затем, чтобы посмотреть ее вблизи да самому показаться… испытать, как, например… нос? не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь».
И он уж решился было зайти; но мысль опоздать к обеду остановила его. Он ускорил шаги, повернул в соседний переулок и, взглянув на часы, взял извозчика. Через десять минут он уже всходил по лестнице, которая вела и квартиру его будущего тестя.
Отрывок из письма Хлыщова к петербургскому приятелю
«…Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое скоро должен я вступить, поистине образцовое. Отец, Степан Матвеич Раструбин, человек не слишком большой образованности, и манеры самые обыкновенные; но что и манеры, когда нет души! А у него, я тебе скажу, душа самая благородная: вообрази, за дочерью дает полтораста тысяч чистогану, да еще по смерти достанется нам до ста тысяч. Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам — и чем же, как думаешь? пиявками! В молодости случилось ему быть в Персии; там он и высмотри, что пиявки вещь недурная. Вышел в отставку, откупил в Персии какое-то болото и завел торг, да вот теперь у него два дома и до полумиллиона чистыми! Он уже давно, разумеется, оставил эту торговлю; понимаешь, наживши такое состояние, оно как-то неловко, а говорит: продолжай торг, добил бы до миллиона. Конечно, он хорошо сделал, что перестал, а всё жаль: пиявки, пиявки, а деньги такие же! Престранный старик! Если б ты знал, как он любит пиявки! Всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена пиявушка, лакей Пиявкин; побранить ли кого вздумает, кричит: пиявица! От всех болезней у него одно лекарство — пиявки, и вообрази: сам ничем в жизни не лечился, кроме пиявок, — а ведь как здоров! Толстяк такой, а лицо — кровь с молоком! И к семейству своему и к знакомым беспрестанно пристает, не поставить ли пиявок; лошадям пиявки ставит, а маленькую Фифи совсем погубил: проклятые всю кровь высосали у бедной собачонки; делались, видишь ли, с ней престранные припадки: вдруг завертится, начнет бегать вокруг комнаты, кружится, кружится да наконец и упадет, ну биться; он ей и приставь сорок четыре пиявки, всю ее так улепили, что смешно было смотреть, стала вся мохнатая, точно новой шерстью обросла! Была толстая, жирная, как всегда мопсы. А как отвалились, так совсем не узнать: точно кот стала, с неделю не кормленный, и шатается. Я, признаться, сначала и порадовался: терпеть не могу никаких маленьких собачонок, особенно мопсов, — ножки короткие, ходит — переваливается, морда тупая, а шерсть так лоснится, — тьфу, противно вспомнить! Да моя бедная Варюша расплакалась: „Вы, — говорит, — папенька, ее погубили своими пиявками!“ А он только смеется. Вообрази: и меня вздумал было лечить пиявками: сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу — так, пустяки! Он и пристал: приставь да приставь я к носу пиявку, я отнекиваюсь… Только что же? Заснул я после обеда: с дороги устал (понимаешь, я у них по-домашнему), слышу шорох, и нос так страшно холодит… открыл глаза, а он тут! и пиявка в руке, уж пробовал, да счастие, не вдруг пристала! Я как вскрикну. Он, уж нечего делать, — стал извиняться; я, говорит, вам же добра желал, а впрочем, как хотите — обиделся! И чего вы боитесь, говорит, вот смотрите: взял и приставил к своему носу: каков? Беда при нем заикнуться, что нездоровится, болит что-нибудь. Умора! а, впрочем, хорошо, что он так привязан к тому, чем, можно сказать, судьбу свою упрочил, — редкая в наш век черта! И, вообрази, даже дети у него… их четверо маленьких, кроме моей Вареты. Женился он, видишь, в Персии, взял персиянку: ну, известно, черная, нос такой крупный, брови, как лес, теперь толстовата голубушка, а хороша, должно быть, была!.. Всё говорит про Персию… Даже дети такие черные, толстенькие, лоснятся, ну точно насосавшиеся пиявки; право! мне, по край ней мере, всегда так кажется. Странная игра природы! А впрочем, семейство прекрасное! Приняли они меня, братец, чудесно: старик послал шампанского. И моя Варенька чудо красоты, любит меня ужасно. Глаз с меня не спускала, да я скоро ушел: спать с дороги хотелось смертельно…; Да что! Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь тай повезло, так повезло, что не будь такое время… да жаль, не до жуировки! время не такое. А с другой стороны, ведь я в некотором смысле образ жизни готовлюсь переменить, с молодостью прощаюсь… думаю, думаю, и сам но знаю, как распорядиться. Ну, да утро вечера мудренее. Прощай, хочется спать…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: