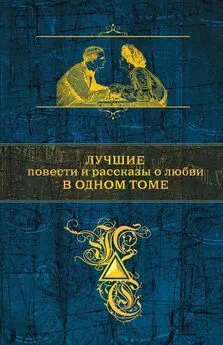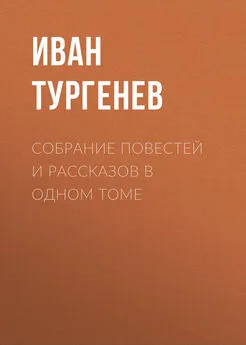Иван Тургенев - Том 10. Повести и рассказы 1881-1883
- Название:Том 10. Повести и рассказы 1881-1883
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Тургенев - Том 10. Повести и рассказы 1881-1883 краткое содержание
Десятый том включает художественные произведения, созданные писателем в последние годы его жизни, а также переводы из Г. Флобера, критику и публицистику конца 1850-х — 1880-х годов.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Повести и рассказы 1881-1883 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дурак *
В черновом автографе заглавия нет. В перечне названий («Сюжеты») в тетради беловых автографов оно названо: «Дурак (рец<���ензент>)». Во всех рукописях и в тексте, посланном Тургеневым М. М. Стасюлевичу в качестве наборной рукописи, содержатся следующие строки: «Кончилось тем, что издатель распространенного журнала <���в первоначальном варианте чернового автографа — „известный издатель известного журнала“> предложил дураку заведовать у него критическим отделом». Учитывая нападки русской реакционной критики на Тургенева в эти годы, современники могли принять это стихотворение за памфлет на какое-то определенное лицо. Так, вероятно, воспринял его и Стасюлевич, обратившийся к Тургеневу с просьбой о замене заглавия и цитированных выше строк. Возвращая корректуру, Тургенев ответил Стасюлевичу 14 (20) октября 1882 г.: «Посылаю Вам обратно „Дурака“ с изменением. Так гораздо лучше — тем более, что никакого у меня личного намека не было. Но заглавие полагаю оставить». В сохранившихся гранках (корректура «Вестника Европы») рукою Тургенева заменены упомянутые выше строки.
Восточная легенда *
Этому стихотворению в прозе Тургенев придал форму восточного аполога, широко распространенную как в западноевропейских, так и в русской литературах в конце XVIII — начале XIX веков. Условная рамка «восточной» повести, басни или сказки представляла известные удобства для писателей, стремившихся иносказательно изложить какую-либо морально-дидактическую идею или как-нибудь намекнуть на то, о чем по тем или иным обстоятельствам неудобно было говорить открыто. Подобные повести, нередко являвшиеся переделками с французского, например, из Вольтера, Мармонтеля или «Восточных басен» («Fables orientales») в прозе Флориана, — писали у нас М. Херасков, И. Крылов, А. Измайлов, И. И. Дмитриев, А. Бенитцкий и другие [169]. Многие из этих повестей усваивали мотивы из сказок «1001 ночи», ставшие весьма популярными после знаменитого, выполненного А. Галланом (1704), французского перевода этой книги, непрерывно переиздававшейся в XVIII и XIX веках. Из этого источника и последующих его адаптаций заимствованы были имена и отдельные мотивы, в частности, сильно идеализированные арабским фольклором образы багдадского халифа Гарун-ар-Рашида (786–809) и не менее знаменитого его визиря — Джафара Бармекида, весьма мало похожие на реальных исторических лиц ( Крымский А. История арабов и арабской литературы. М., 1912. Ч. 2, с. 145, 157–158). Из французского, английского или русского источника Тургенев заимствовал имя героя своей «Восточной легенды», мы не знаем; характерно, однако, что в черновом автографе имя визиря имеет написание Гиафар, лишь позднее всюду измененное на Джиаффар, как он обычно именовался в русских источниках. Возможно, что в соответствии с традициями восточного аполога Тургенев написал свою легенду для того, чтобы высмеять какой-либо конкретный факт русской придворной жизни, изображая своего героя, отличавшегося, по его словам, «благоразумием и обдуманностью» среди своих сверстников; однако попытки расшифровать этот намек (ср.: Шаталов, с. 37, 103) пока еще не привели к сколько-нибудь правдоподобным результатам.
«Восточная легенда» Тургенева сюжетно совпадает с произведением классика казахской поэзии Абая Кунанбаева поэмой «Масгуд» (1887); вся первая часть этой поэмы представляет собою пересказ стихотворения в прозе Тургенева; это тем более вероятно, что на рукописи легенды Абая ее издателями было помечено: «Тургеневтен» (из Тургенева). Однако у обоих произведений мог быть и общий источник из арабских легендарных сюжетов (см.: Ахметов З. А. «Восточная легенда» Тургенева и «Масгуд» Абая Кунанбаева. — Т сб, вып. 3, с. 163–165; а также: Озеров Л. А. «Стихотворения в прозе» Тургенева. — Мастерство русских классиков. М., 1909, с. 212). Вторая часть «Масгуда» принадлежит Абаю: Масгуд становится визирем и мудрым советником халифа, но их мудрость и власть беспомощны и жалки перед толпой народа, напившегося вредоносной воды (см. перевод поэмы и кн.: Кунанбаев Абай. Собр. соч. в 1 т. М., 1954, с. 297–302).
Два четверостишия *
В первоначальном замысле «Двух четверостиший», записанном со слов Тургенева в 1874 г. Н. А. Островской, речь шла о двух «цивилизаторах» в некоей фантастической стране. В «Воспоминаниях» Н. А. Островской устная импровизация Тургенева записана в следующем виде:
«Была дикая страна. Жители в ней были — как звери, даже религии не имели. Явились туда два цивилизатора. Один из них начал с того, что стал проповедовать религию — религию прекрасную, религию любви, милосердия, всепрощения. Его не слушали, смеялись над ним, считали сумасшедшим. Товарищ его был много ниже его и по уму, и по характеру, но хитрее, лукавее. Он прислушивался к его словам, запоминал и через несколько времени сам стал проповедовать то же самое, но при этом популярничая, опошляя прекрасные мысли. Над ним не смеялись, у него нашлись даже последователи. Один из этих последователей был человек ловкий — он догадался: распустил слух, что новый проповедник — пророк, настоящий пророк, и что у него огромная жемчужина вместо пупка! Тогда весь народ, вся чернь уверовала… Выстроили храм неведомому богу, лжепророка произвели в главные жрецы, его первых последователей сделали также жрецами, и посыпались на них деньги, приношения… А тот, первый-то проповедник, с ужасом увидал, что его благородные мысли искажаются… Он пробовал возражать, возражал публично; на него напали, как на богохульника, заковали в цепи, судили и приговорили к казни. На площади перед храмом толпа; у преддверья храма на тропе сидит главный жрец. Посреди площади воздвигнут костер. На костер тащат несчастного; чернь ругается над ним, бросает в него камнями… Вот его втащили, привязали, дрова подожгли! Чернь рукоплещет; жрецы поют хвалебные гимны всемогущему существу, а главный жрец, подняв руки к небу, восхваляет бога милости, бога любви!..» ( Т сб (Пиксанов), с. 119). И. С. Розенкранц в статье «О происхождении некоторых „Стихотворений в прозе“ И. С Тургенев»» (Slavia, 1933, Ročn. XII, Seš. 3–4, s. 387), справедливо указавший на этот устный рассказ Тургенева как на источник, из которого четыре года спустя выросли «Два четверостишия», отмечал: «Когда Тургенев придавал окончательную форму данному стихотворению, он изменил содержание, но основа осталась та же: и там и здесь мы имеем двух лиц, из которых один является автором, другой же заимствует тему (проповедник — Юний, лжепророк — Юлий). В обоих случаях остается победителем второй — исказитель мыслей первого».
Процесс создания «Двух четверостиший», растянувшийся на несколько лет, имел, очевидно, несколько этапов и в результате от первоначального замысла в окончательном тексте этого произведения остались очень немногие подробности. «Дикая страна», в которой сначала сосредоточено было его действие, превратилась в некий гипертрофически цивилизованный город, жители которого превыше всего любили поэзию. Этому фантастическому городу придан условный античный колорит с намеками на античный Рим (имена Юния и Юлия, упоминание «ликторов» с их «жезлами»). Сложнее стал конфликт между поэтами-соперниками и восприятием их стихотворений толпой «любителей поэзии». Черновой автограф позволяет проследить, как складывалось у Тургенева это представление о двух поэтах и как менялся текст стихотворения, становившегося поводом для конфликта. Первоначально Тургенев назвал свой отрывок «Двустишием» (затем — «Два двустишия»), так как строка: «Друзья! Товарищи! Любители стихов!» — являлась первоначально обращением к слушателям, а самое стихотворение было более кратким и состояло из двух строк (третья и четвертая окончательного текста). Потом Тургенев вписал вторую строку стихотворения, а затем двустишие превратил в четверостишие, сделав обращение первой строкой. На одном из разрозненных листков чернового первоначального автографа Тургенев записал черновик стихотворения, по которому можно проследить последовательность превращения двустишия в два двустишия и затем в два четверостишия. Существенно также, что в конце чернового текста своего стихотворения в прозе Тургенев проставил и другую дату: «Апрель — май 1878 г.» — и записал в качестве эпиграфа следующие стихи:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: