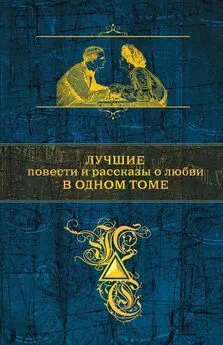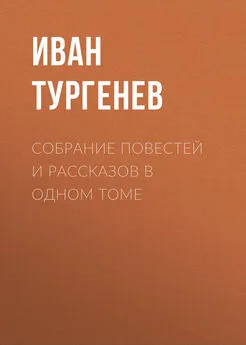Иван Тургенев - Том 10. Повести и рассказы 1881-1883
- Название:Том 10. Повести и рассказы 1881-1883
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Тургенев - Том 10. Повести и рассказы 1881-1883 краткое содержание
Десятый том включает художественные произведения, созданные писателем в последние годы его жизни, а также переводы из Г. Флобера, критику и публицистику конца 1850-х — 1880-х годов.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Повести и рассказы 1881-1883 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все успокоились, тихо в местах учрежденных сидели;
Только Терсит меж безмолвными каркал один, празднословный;
В мыслях вращая всегда непристойные дерзкие речи,
Вечно искал он царей оскорблять, презирая пристойность,
Все позволяя себе, что казалось смешно для народа… и т. д.
С кем спорить… *
Впервые опубликовано в кн.: XXV лет. 1859–1884. Сборник, изданный комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 272, со следующим примечанием редактора (В. П. Гаевского): «Сообщено, по нашей просьбе, М. М. Стасюлевичем, с объяснением обстоятельств, при которых эта шутка Тургенева была получена из Буживаля, в октябре 1882 г. Редактор „Вестника Европы“ нашел, что одно из „Стихотворений в прозе“, напечатанных в журнале (декабрь, 1882) [192], легко могло быть истолковано как личный намек, и сообщил свое опасение их автору. Тургенев, отрицая это, заключает свое письмо от 14 (26) октября 1882 г. таким образом: „В доказательство, что я не делаю намеков, — а говорю прямо, прилагаю <���…> одно стихотвореньице — не для печати, разумеется, а чтобы сорвать с Вас улыбку“» — и затем непосредственно следует текст самой шутки. «В. В. Стасов, с согласия которого печатается „стихотвореньице“, — добавлял В. П. Гаевский, — обещает когда-нибудь рассказать в своих воспоминаниях о знакомстве с покойным и тот случай, который, очевидно, пришел на память Тургеневу, горячо поспорившему с ним по какому-то чисто художественному вопросу». Через несколько лет, публикуя свои воспоминания о Тургеневе, В. В. Стасов снова воспроизвел весь текст этого стихотворения в прозе и сопроводил его следующим своим замечанием: «Несмотря однако же на такой строгий приказ другим, сам Тургенев никогда его не исполнял в отношении к самому себе, и много лет своей жизни проспорил со мною и до и после этого своего „Стихотворения в прозе“. Наши письма служат тому доказательством <���…> Ни Тургеневу, ни мне молчание вовсе не казалось великим благом, и мы при каждом новом случае, почтя при каждом новом свидании или письме втягивались в ярые, долгие споры. Худого от этого для нас не вышло» ( Стасов В. В. Двадцать писем Тургенева и мое знакомство с ним. — Сев Вестн, 1888, № 10, с. 145–146).
Впоследствии «С кем спорить?» по первопечатному тексту воспроизвел М. О. Гершензон ( Рус Пропилеи, т. 3, с. 53), но в состав всего цикла оно не включалось и печаталось лишь в приложении или в комментариях на том основании, что Тургенев сообщил его Стасюлевичу «не для печати». Однако стихотворение «С кем спорить?», набросанное Тургеневым в черновике одновременно с другими стихотворениями этого года, было переписано им набело в тетрадь белового автографа со всеми стихотворениями под № 38, между «Писатель и критик» и «О моя молодость!..» Поэтому у нас есть все основания печатать его в основном корпусе на точно определенном самим Тургеневым месте.
Многолетнее знакомство Тургенева с В. В. Стасовым, длившееся с 1869 г. до смерти Тургенева, отражено в их переписке (сохранилось двадцать писем Тургенева к Стасову и всего лишь четыре письма Стасова к Тургеневу; см.: Т сб, вып. 1, с. 446–453). При встречах и в письмах Тургенев и Стасов то мирно беседовали друг с другом, то вступали в яростные споры, касавшиеся русской музыки, изобразительного искусства и литературы. Так как они придерживались зачастую противоположных точек зрения на развитие русского искусства и литературы, для возникновения ожесточенного спора между ними достаточно было незначительного повода, а самый спор приводил к охлаждению и разрыву. Наиболее враждебными были отношения Тургенева и Стасова между 1875 и 1880 годами. «Впрочем — к чему спорить? — писал Тургенев Стасову 16 (28) августа 1875 г. о дискуссии, возникшей между ними по поводу проекта памятника Пушкину, предложенного М. М. Антокольским для Москвы. — У меня до сих пор краска стыда жжет лицо, когда я вспоминаю, что мы, старые, седые люди, могли до крику, до изнеможения спорить — о чем? О пиэдестале! Одни русские в целом мире способны впасть в такое пустое младенчество! Сошлись — и давай жевать сухую траву, да еще задыхаться и сверкать глазами во время жевания». На то же пятилетие, к которому относится стихотворение «С кем спорить?», пришлись также три весьма враждебные статьи Стасова против Тургенева, напечатанные (под псевдонимом) в «Новом времени» в 1877, 1878 и 1879 гг. [193], а также несправедливый выпад против Тургенева в воспоминаниях Стасова об училище правоведения, напечатанных в «Русской старине» 1880 года.
В своей «Художественной автобиографии», которая должна была служить вступительной главой к книге «Разгром» и вместе с тем итогом его критической деятельности, Стасов утверждает: «Споры, т. е. обмен мнений и притом со специально нападательским характером, всегда были не только моей потребностью, но просто страстью» ( Каренин Вл. Владимир Стасов. Л., 1927. Ч. I, с. 120). Это подтверждает, что в стихотворении «С кем спорить?» Тургенев, говоря о Стасове-спорщике, представлял себе его как своего рода типическое обобщение спорщика, в своем увлечении по-своему истолковывающего слова противника.
«О моя молодость! О моя свежесть!» *
Заглавие представляет собою слегка измененную цитату из «Мертвых душ» Гоголя (ч. 1, гл. 6). Приведя эту концовку на память, Тургенев имел, конечно, в виду и всю предшествующую лирическую тираду: «Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту <���…> Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне <���…> то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!»
К *** *
Тургенев писал П. Виардо 4 (16) ноября 1852 года: «Как вам понравится этот конец одной старой русской песни (дело идет об убитом молодце, который лежит „под кустом“):
То не ласточка, не касаточка
Круг тепла гнезда увивается <���…>»
Дальше Тургенев цитирует продолжение песни — о том, как «увиваются» и плачут около убитого мать, сестра и жена [194]. «Вы не поверите, — продолжает Тургенев, — сколько поэзии, свежести и нежности в этих песнях; я пришлю вам некоторые из них в переводе».
Похожую по содержанию песню, начинающуюся словами: «Ах ты, поле, поле чистое», с описанием убитого молодца и плачем над ним матери, сестры и жены, Тургенев мог прочесть в «Собрании русских стихотворений из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изд. В. Жуковским». М., 1810. Ч. 2, с. 312, № XI. Там есть и следующие строки: «Не ласточки увивалися Вкруг родима тепла гнездышка, Увивается тут матушка» <���…> и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: