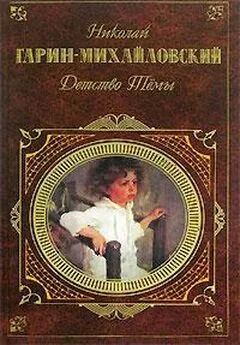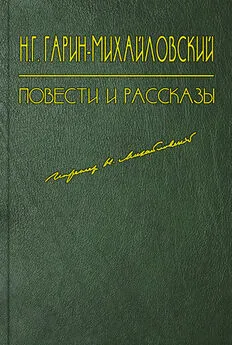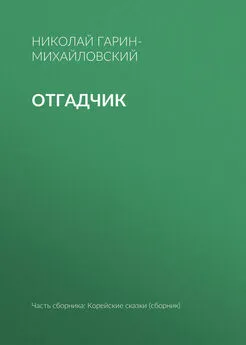Николай Гарин-Михайловский - Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906
- Название:Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1957
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Гарин-Михайловский - Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 краткое содержание
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1895–1906 гг.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Господи Иисусе Христе, сыне божий, спаси и помилуй!
Он ждал обычного ответа: «Аминь».
И, не дождавшись, нетерпеливо крикнул:
— Эй, там! Кто жив?
И, подождав еще, стал стучать кнутовищем в окно.
— Спят ли, померли, есть ли кто? Бежать, что ли, к шабрам?
И он исчез, и мы долго слушали и его громкие окрики, и стуки кнутовищем в окно.
Он возвратился, наконец, назад к нам и, разводя руками, сказал:
— Что за оказия? Никогда этого и не бывало со мной: уж не он ли играет с нами? Так вот крещусь же.
И Владимир, как бы в доказательство, полушутя, полусерьезно стал креститься, приговаривая:
— Свят, свят, свят, — свято наше место… Вот…
Владимир хлопнул обеими руками по полушубку и пошел опять к избе.
— И калитка отперта, — крикнул он и, отворив калитку, просунул голову во двор.
Но потом он вдруг быстро возвратился к нам назад и, проговорив с испугом:
— Нет, боязно что-то, — вскочил на облучок.
— Почему боязно?
— Да как не боязно, — ответил Владимир, — вы подумайте только: молчат, как убитые, калитка не на запоре, хоть бы одна собака тявкнула, — статочное ли это дело в крестьянстве?
— Ну, тем больше надо, значит, узнать, в чем тут дело, — сказал Андреев и стал вылезать.
— Уж и мне, что ли, идти? — проговорил я.
— Да сидите, сидите.
И Андреев зашагал по снегу, а я, откинувшись, в приятном нежелании вставать, пользуясь любезным разрешением оставаться, смотрел ему вслед.
Он отворил калитку и вошел во двор; некоторое время видно было, как он шел по двору, затем слышно было, как хрустел снег под его ногами, но потом и эти звуки затихли, и Андреева долго не было.
Когда он возвратился, он подошел вплоть к саням, навалился на них и, смотря мне прямо в глаза, тихо сказал:
— А ведь плохо: все в тифе лежат.
— Как в тифе?
— Все — вся деревня. Есть-такие избы, где уже замерзли, — в этой последний здоровый сегодня свалился… Хотите посмотреть?
— Так-таки все?
— Говорит, все.
Я встал, и мы пошли с Андреевым во двор, а Владимир жалобно вдогонку нам растерянно глянул:
— Барин, а барин, ну что вам за охота, — поедем лучше назад…
Охоты у меня никакой не было: каждая поджилка во мне билась так, как будто и я уже был охвачен этой истомой тифозного жара, и я шел вперед с таким трудом, точно через силу уже совсем больной тащил самого себя. Мои мысли, воображение опережали меня, и я шел нехотя, с каким-то посторонним, исключительным вниманием замечая каждую мелочь, каждую мысль. Вот Владимир все еще просит воротиться: сказать ему, что он просит потому только, что боится остаться один? Но я разве не боюсь? Чего я боюсь? Я точно пойманный вдруг преступник, и ведут меня теперь на очную ставку. И всегда я знал, что это так кончится, но никогда я об этом не думал и вдруг стал думать и чувствовать: не умом, а всем тем существом, которое теперь, согнувшись, пролезает в дверь избы, тем бессознательным, которое составляется из мяса, костей, крови, которое теперь ответит за все.
И мне было отвратительно это мое существо, его страх за сделанное.
Я задыхался в ужасном зловонии, дрожали руки, которыми я то и дело зажигал спички. Спичка вспыхивала и тухла, и то освещался, то исчезал этот склеп заживо погребенных здесь людей.
Изба курная, и потолок и стены ее были точно обтянуты чем-то черным, — черными бриллиантами, которые вдруг загорались от вспыхнувшей спички.
И в этом вспыхнувшем огне бросались в глаза лежавшие люди, и сердце сжималось тоской и болью. А эти люди молчали и точно ждали в напряженном зловещем молчании, окружавшем нас, нашего слова теперь, когда, наконец, привели и поставили нас лицом к лицу с ними.
И, точно не дождавшись и изверившись, кто-то тяжело вздохнул в темноте. Какой это был тяжелый и скорбный вздох!
В тяжелой тоске спросил я:
— Кто здесь?
И мне страстно, быстро ответил откуда-то снизу голос из темноты:
— Люди, батюшка, люди!
И в то же время сверху женский голос с бредом безумного весело взвизгнул:
— Люди, люди!
— Вы все лежите?
— Все лежим!
— Лежим, лежим! — подхватили вверху.
— Пища есть?
— Не емши лежим!
— Не емши, не емши, — истерично заметалась женщина.
— И вся деревня так?
— А так, так!
— И давно?
Никто не ответил. Я подождал и зажег новую спичку и наклонился к говорившему.
Это был подслеповатый, с всклокоченной курчавой бородой блондин.
Он уставился на меня и уже совершенно равнодушно, голосом бреда, сказал:
— Ишь, черт, глазища пялит.
— Это ты сейчас со мной говорил?
Но он молчал, молчала и та наверху, потухла спичка, и мрак и молчание охватили меня, как страшные объятия смерти.
К жизни, к свету, к людям!
И я бросился к дверям.
Это был столько же сильный, сколько и животный порыв. И сознание этого животного во мне, эгоистичного, отвратительного, еще мучительнее почувствовалось, и с омерзением и к себе, и к Андрееву, и к Владимиру, и даже к этим сытым своим лошадям, я стоял опять у саней, и мы советовались, что нам предпринять после нашего случайного открытия этой в поголовном тифе деревни.
— Надо точно выяснить положение, — сказал Андреев. — Надо обойти все избы.
И мы пошли из избы в избу.
Нервы притупились, и мы спокойно смотрели на однообразные картины голодного тифа, на все эти тела — живые, умирающие и мертвые, на всю эту деревню, которая стояла среди снежных равнин в страшном безмолвии ночи, в мертвом блеске луны.
Потом выяснилось, что это была одна из тех деревень, которые не пошли на запашку и в отношении которых земство мужественно выдерживало свой ультиматум: хочешь бери, хочешь нет.
Но почему же отказывались от запашки? Обычный ответ был такой:
— Кто на запашку пойдет, того в крепость назад по воротят.
Сущность же заключалась в том, что запашки не желали более зажиточные, боясь ответственности, вследствие круговой поруки, за голытьбу. То есть большинство относилось к делу так же, как и крупные землевладельцы: не желали платить за других. Это было их право, которого их самовольно и лишили крупные землевладельцы, позволив себе таким образом такой же произвол, какой позволял себе и я с князевцами. И только тогда, когда на деревне и большинство уже проедало свою скотину, становясь таким образом тоже голытьбой, — запашка принималась.
Но умершие от тифа уже спали своим вечным сном в могилах, да и разорившиеся распродажей скота крестьяне не могли уже поправиться, не могли и вовремя привезти себе семян, отчего и произошел второй голод.
Я уже писал о голодном годе. Скажу только, что в моих очерках («Деревенские панорамы», «На ходу», «Сочельник в русской деревне») переданы действительные факты, и фактов этих в каждой голодающей деревне было всегда больше, чем надо. Об этом красноречиво говорили новенькие крестики на кладбищах, эти безмолвные, но всегда достоверные свидетели.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: