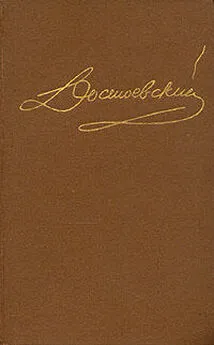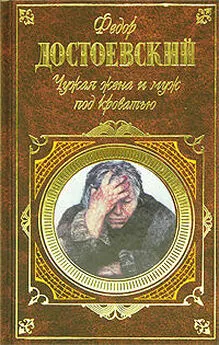Федор Достоевский - Том 8. Вечный муж. Подросток
- Название:Том 8. Вечный муж. Подросток
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Достоевский - Том 8. Вечный муж. Подросток краткое содержание
В настоящем томе печатаются рассказ „Вечный муж“ (1870) — один из шедевров психологического искусства писателя — и роман „Подросток“ (1875) — второй (после „Бесов“) из романов Достоевского, работа над которыми была начата в качестве реализации зародившегося у него в конце 60-х годов замысла романического цикла „Атеизм“ (позднее получившего название „Житие Великого Грешника“).
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 8. Вечный муж. Подросток - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отдельные краткие характеристики романа содержались в обзорных статьях, подводящих литературные итоги 1876 г. „Подросток“ в них был признан вторым по значению, после „Анны Карениной“ Л. Толстого, русским романом из вышедших в этом году.
Особое место среди откликов на „Подростка“ занимают суждения Н. К. Михайловского, высказанные в цикле очерков „Вперемежку“, которые начали печататься в „Отечественных записках“ с января 1876 г. Значение этих очерков далеко выходит за пределы истолкования романа Достоевского, [293]однако внешним поводом для появления записок Григория Александровича Темкина (героя очерков „Вперемежку“) послужило чтение „Подростка“. Прочитав эпилог романа (письмо Николая Семеновича), Темкин — Михайловский никак не мог согласиться, что „красивый тип“, „законченные формы чести и долга“ есть лишь достояние дворянства. С этой мыслью романа он и вступает в полемику в своих очерках. Михайловского возмущает, что Николай Семенович, „совершенно не дворянин“, „болеет сердцем о «красивом типе» старого русского дворянства“ и уверен, „что нигде, кроме среды «культурных русских людей», не существуют законченные понятия чести и долга“. [294]Не согласен он и с тем, будто современные молодые люди отрываются от красивого типа „с веселой торопливостью“. „Кстати о Николае Семеновиче. Я слышал мнение, будто его устами говорил сам г-н Достоевский. Это, конечно, — совсем пустяки, — не без иронии замечает Михайловский. — Г-н Достоевский не в таких летах и не такого закала человек, чтобы быстро менять свои взгляды. Он еще очень недавно чрезвычайно энергически заявлял, что «Власы спасут себя и нас» (имеется в виду статья „Влас“ в „Дневнике писателя“ за 1873 г. — А.А.). У спасителей должны же быть определенные формы чести и долга, иначе они никого не спасут. А вы помните, что говорил Николай Семенович: по части долга и чести «кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде не начато». Ясно, что Николай Семенович и г-н Достоевский — два совсем разные лица. Николай Семенович — просто преданный дворовый, а г-н Достоевский, может быть, даже согласится со мной, что мы, дворяне, недавно только начали, то есть начали вырабатывать формы чести и долга, и начали именно покаянием". [295]Основная задача Михайловского в очерках „Вперемежку“ заключается в том, чтобы показать, как вырабатываются „формы чести и долга“ в молодых дворянах, „кающихся дворянах“, как он их называет, которые оторвались от своего класса, но отнюдь не „с веселой торопливостью“. „О нет, поверьте, — говорит герой Михайловского о себе, — что много душевной муки и горечи пережил я прежде, чем оторваться и покаяться <���…> А оторвался я единственно потому, что не нашел ни законченных форм чести и долга, ни красивого типа, если я только верно понимаю, что хотел этими последними словами сказать Николай Семенович“. [296]В трагической судьбе современного молодого поколения Михайловский находит много поэтического и прекрасного, а революционеров-разночинцев и примыкающих к ним „кающихся дворян“ считает носителями подлинных чести и долга.
Хотя анализ „Подростка“ ни в коей мере не является задачей автора „Вперемежку“, упоминается роман в очерках неоднократно. Рассказ о детстве Аркадия Долгорукого, о том, как фамилия его у всех ассоциировалась с княжеским титулом, вызвал воспоминания Темкина о своем детстве, годах учения, школьных прозвищах и товарище Темкина Нибуше, незаконном сыне „древнего красивого типа“ — Шубина. Нибуш, чья жизнь была не легче, чем жизнь Аркадия Долгорукого, стал революционером, и его облик окружен в очерках ореолом нравственной красоты. В истории отношений Нибуша к Соне, сестре героя, обманутой либеральствующим эстетом Башкиным, есть не только намеренное „перевертывание“ обычной сюжетной схемы „антинигилистических“ романов, но, возможно, и поправка, говоря словами Михайловского, — „передвижечка“ по отношению к одной из сюжетных линий „Подростка“: Лиза — князь Сокольский — Васин. Герои Михайловского, конечно, лишены противоречивости героев Достоевского: Башкин в отличие от Сокольского не мучается никакими угрызениями совести; Соня ведет себя решительно и последовательно, окончательно разорвав с Башкиным и не испытывая к нему ничего, кроме презрения; Нибуш в отличие от рационалиста Васина характеризуется скромностью, глубоким благородством, искренностью и экспансивностью. Михайловского не удовлетворяли как антинигилистические романы, так и схематичные романы о „новых людях“. Идеям „Подростка“ он также не мог сочувствовать. Однако видел в этом романе значительное и серьезное художественное произведение, с автором которого спорил „на равных“. [297]
Михайловский первый обратил пристальное внимание на „Заключение“ „Подростка“ и на рассуждение о дворянстве, в нем содержащееся. Впоследствии, вероятно, не без влияния Михайловского, „Письмо“ Николая Семеновича стало восприниматься изолированно от романа как самостоятельное публицистическое высказывание. Некоторые положения из „Заключения“ были использованы H. H. Златовратским в повести „Золотые сердца“ (1876). Одна из героинь, Катя, дочь помещика и крепостной, названа „дитя «случайной семьи»“. [298]Другое действующее лицо той же повести, Петр Петрович Морозов, случайный помещик из разночинцев, человек, знающий сельское хозяйство и умеющий вести его, но совершенно равнодушный ко всем выгодам и доходам, на упрек своего собеседника-дворянина в равнодушии к судьбе своей родины, к культурному наследию, выработанному прошлыми поколениями дворянства, возражает: „Вместо ответа я бы спросил: помешали ли эти культурные традиции спустить «с веселой торопливостью» выкупные свидетельства и богатые имения в руки кулаков? Помогли ли они удержать оранжереи, парки, фруктовые сады, английские фермы и тому подобные культурные насаждения?“. [299]
Здесь формула Достоевского, вероятно, воспринятая Златовратским из очерков Михайловского, уже изменила свое содержание и обозначает не нравственное, идейное, а экономическое перерождение дворянского класса.
Еще дальше в субъективном истолковании идей „Подростка“ пошел Гл. И. Успенский в очерках „Из разговора с приятелями“. [300]В этом произведении Успенского нашла отражение тема „благообразия“ и „неблагообразия“ русской жизни, поставленная в „Подростке“, а в одной из глав журнальной редакции очерков прямо упоминается Достоевский, который, как кажется Успенскому, слишком высоко оценил дворянство, сделав его носителем жизненного „благообразия“. „Вопреки уверениям г-на Достоевского, — пишет Гл. Успенский, — который в одном из своих романов сказал, что «благообразие» вообще встречается на Руси в привилегированном сословии, я думаю как раз наоборот: оно всё целиком сосредоточено в нашем крестьянстве… не забывай, что интеллигенцию я исключаю…“. [301]Такая интерпретация мыслей Достоевского не вполне точна. В „Подростке“ говорится о „законченных красивых формах“, о „завершенности“, о выработанных „формах чести и долга“, принадлежавших русскому дворянству в прошлом, но вовсе не о „благообразии“, которого ищет Аркадий Долгорукий и которого, по Достоевскому, современное дворянство лишено. Носителем же этического благообразия является в романе Макар Долгорукий, крестьянин, и в этом отношении между идеалами Гл. Успенского и Достоевского были возможны точки соприкосновения, хотя положительный герой Достоевского провел свою жизнь не вблизи „ржаного поля“ (как крестьяне Успенского), а странствуя по святым местам. [302]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: