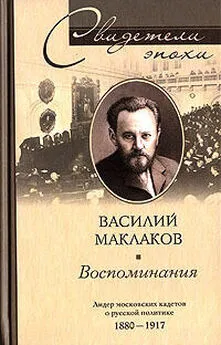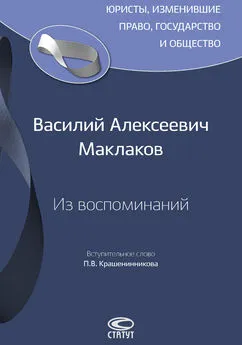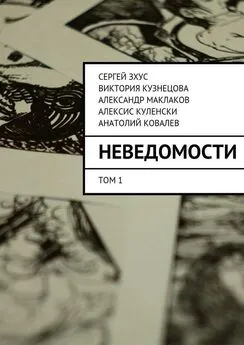В Маклаков - Из воспоминаний
- Название:Из воспоминаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В Маклаков - Из воспоминаний краткое содержание
Из воспоминаний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это заседание совпало с днем убийства Распутина; из-за этого доклада я должен был уехать в Москву, несмотря на просьбы Юсупова и Пуришкевича быть в этот день в Петербурге. Об этом можно найти в воспоминаниях их об убийстве, и особенно в моих к ним дополнениях ("Соврем. Записки", № 34). Потом все слилось в моей памяти в один эпизод. Самый мой доклад был напечатан в "Вестнике гражданского права", в декабре 1916 и январе 1917 г.
Укажу, в чем его сущность. Так как такие вопросы революция стерла, то моего тогдашнего доклада без пояснения сейчас было бы невозможно понять.
Крестьяне в России были не социальным классом мелких землевладельцев, как повсюду в Европе, а замкнутым "сословием"; они подлежали действию особых законов в сфере гражданских их прав, их {368} права на землю, наследственных прав, семейной собственности и других проявлений так называемого "трудового" начала, которые выражались в обычном их праве, для них одних иногда заменявшем законы. Все эти особые права были связаны с "личностью" т.е. с принадлежностью к "крестьянскому сословию" и распространялись на все их гражданские отношения. Мой план был перенести все эти "особые права" с личности крестьянина на объект его собственности, т.е. на его "надельную землю". Как раньше наше законодательство знало особые земли: майораты, заповедные земли, для ограждения крупного землевладения от распыления, так я предлагал подчинить все "надельные земли" особому законодательству, имеющему специальную цель охранять на них "мелкое землевладение" - и "трудовое начало". Владение надельной землей перестало бы тогда быть привилегией крестьянского сословия. Все, кто приобретал эти земли, на них должен бы был подчиняться этим специальным социальным законам.
Зато вне этих земель и крестьяне во всем подлежали бы общему праву. Словом "сословное" законодательство превратилось бы в "социальное", для определенной социальной цели, но только на определенной земле. Я в конце своего доклада так формулировал свое понимание желательных приемов нормального законодательства.
"Прежде всего нельзя не признать, что предлагаемое решение есть решение радикальное. После проектированного комплекса реформ не будет больше сословного крестьянского законодательства; может не быть больше и крестьянского сословия. Популярный лозунг эпохи - уравнение крестьян в правах с другими сословиями - будет осуществлен в полной мере; если бы даже не был уничтожен самый термин "крестьянин", то за ним сохранилось бы только бытовое значение, только профессиональная {369} этикетка, подобная слову "рабочий". Крестьянство не будет иметь ни сословной организации, ни сословных привилегии и правоограничений; равноправный со всех сторон, ничем от других не обособленный, крестьянин превратится в полноправного обывателя. Таким образом, в смысле радикализма эта реформа не оставляет желать ничего большего...
Но это только одна ее сторона: другая - и это я особенно подчеркиваю, - заключается в противоположном свойстве. Радикальная по идее, она на первых порах будет совсем незаметна, не вызовет никаких потрясений. Все останется по-старому, на прежних местах...
Крестьянин, который по своему сословному признаку подлежал особому гражданскому праву, останется и теперь ему подчиненным, но уже только как собственник надельной земли; этому же праву будут подчинены и все другие собственники такой же земли. Но зато вне надельной земли крестьяне будут подчинены общему праву; и мы видим таким образом, что при всем своем радикализме намечаемая реформа по способу своего проведения является консервативной; она стремится ничего не ломать, хочет, чтобы крестьянство почувствовало не потрясение, а только одно облегчение. Даже в том, что эта реформа дает нового, в превращении сословного законодательства в социальное, даже в этом сказывается не смелый порыв законодательного творчества, которое открывает новые пути и дороги, а уступка напору жизни, запоздалая регистрация того, что давно уже началось совершаться. И это-то дает право сказать, что реформа на предлагаемых здесь основаниях не является преждевременной; она давно созревший и доношенный плод".
Я привел эту большую цитату, так как она единственный случай моего давнишнего profession de foi.
{370} Я случайно ее откопал в старом журнале ("Вестник гражданского права" 1917 г.).
Такое понимание воспитала во мне жизнь старой России в ее мирное время. И Революция не убедила, что бы ее скоропалительная манера законодательствования была для государства и населения предпочтительнее.
Но моему поколению из "мирной эпохи" пришлось попасть под власть другой политической атмосферы, которая уже приближала Россию к "роковым минутам" ее. "Преддверием" их было то Освободительное движение, о котором я уже говорил. Оно было направлено против самодержавия, которое считалось главным устоем нашего государственного порядка. Я не отказываюсь от того, что говорил в предыдущей главе (XI), что и это движение по существу не требовало никакой Революции, могло своих целей достигнуть простой "эволюцией". Но стороны, которые стали бороться между собою тогда, на это смотрели иначе.
Ревнители "самодержавия" не могли помириться с каким бы то ни было его ограничением, хотя бы в виде "Совещательного представительства" - забывая, что такой фанатик самодержавия, как Грозный, счел необходимым его дополнением существование Земского Собора. Еще менее они соглашались признавать, что "закон" может быть выше "воли монарха", - хотя бы он и издавался самим же монархом. Всякое покушение на "неограниченность" власти самодержца казалось им умалением идеи монархии, которую самодержцы должны защищать, как народное благо, как условие существования самой России. А потому в Освободительном движении, которое добивалось совсем не переворота, а только естественного улучшения существовавшего строя, перехода к конституционной монархии, уже испробованной и укрепившейся в других государствах, слепые поклонники самодержавия, которые {371} жили одними старыми воспоминаниями, усматривали все-таки простое "преддверие революции", начало ее, которой нужно было всеми силами сопротивляться и видели в каждом шаге вперед "начало конца". К сожалению, в противоположном лагере своими излишествами давали повод так думать и в ошибочном взгляде на Освободительное движение его противников укрепляли. Крайности обеих сторон питали друг друга.
Сторонники конституции и народовластия теряли веру в то, что монархия согласится добровольно себя ограничить, приходили к заключению, что она станет свою неограниченную власть защищать до конца, принося все этому в жертву, и готовы были согласиться на бедствия революции, чтобы только избавиться от такого неограниченного самодержавия; так ведь и в настоящее время многие противники коммунизма для избавления от него готовы помириться даже с внешней войной и разгромом России.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: