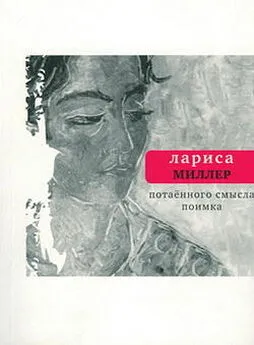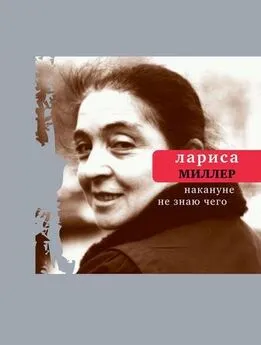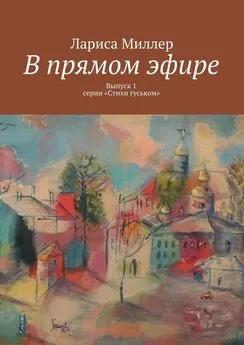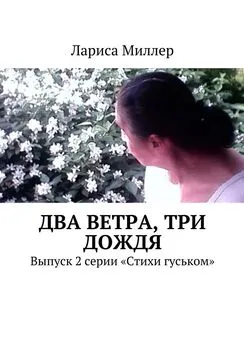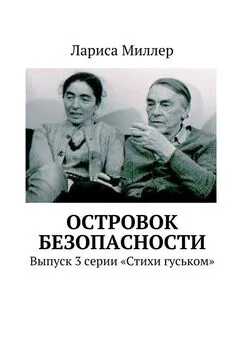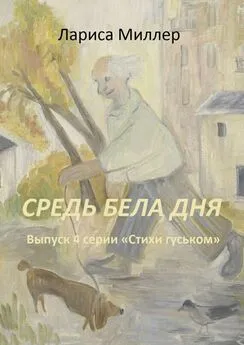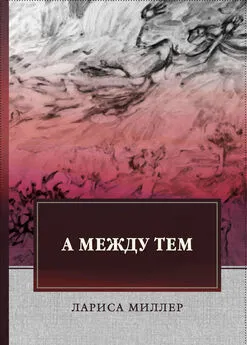Лариса Миллер - О книгах, о поэтах, о стихах
- Название:О книгах, о поэтах, о стихах
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Миллер - О книгах, о поэтах, о стихах краткое содержание
О книгах, о поэтах, о стихах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ещё из Кокто: "Произведение искусства должно удовлетворять требованиям всех муз". Я бы избегала слова "должно" в разговоре об искусстве. После стольких лет несвободы у нас у всех аллергия на это слово. И тем не менее, если произведение искусства что-то кому-то и должно, то музам. Одно из самых сильных впечатлений последнего времени - фильм Бертолуччи "Пленённые". Фильм, оставшийся в тени как у нас, так и за рубежом. Я поняла в чём его несказанная прелесть (да простят мне высокий штиль): этот фильм - стихи. Причём рифмованные и с ясным ритмом. В отличие от западной поэзии, где рифма, как правило, отсутствует, здесь она присутствует в полной мере - звонкая и точная. И даже не присутствует, а вспыхивает. Вспыхивают рифмующиеся реплики, кадры, краски, жесты. И всё это сцеплено ритмом, подобным биению пульса. Он прихотлив и изменчив и задан жизнью, её энергией и волей. Ритм меняется внутри кадра, как меняется в течение дня частота пульса.
Несмотря на свой жанр (что может быть элементарнее мелодрамы?), фильм сложен, но не усложнён. Он сложен естественной сложностью. Той, какой сложна жизнь. И так же, как сама жизнь, прост. Рассказывать это кино всё равно, что пытаться пересказать стихи. Дело не в том, что ОН влюблён в НЕЁ, а в том, как он на неё смотрит, как говорит, как наклоняет голову, как она ест своё авокадо, как протирает узорчатую решётку на лестнице, как загорается в вазочке красный цветок, как вспыхивает свеча, отражённая в крышке рояля, как идёт под дождём случайный прохожий в синем плаще и белых кроссовках. У фильма чистый звук и ясные линии. Он целомудрен, несмотря на то, что делал его изощрённый, искушённый мастер. А, может быть, благодаря этому. Только художник, прошедший огонь, воду и медные трубы, способен сделать такой гениально простой фильм. Техника здесь настолько совершенна, что её перестаёшь замечать. Это та высшая степень сложности, которая кажется простотой. И снова из той же брошюры Кокто. Вот как он говорит о своём друге композиторе Эрике Сати: "Сати учит нас самой большой дерзости нашей эпохи - быть простым.... В эпоху крайних изысков это единственно возможная оппозиция". Наверное, то же самое можно сказать о "Пленённых" Бертолуччи. Скорей всего, именно из-за своей кажущейся простоты фильм остался в тени.
Этот фильм для меня - поэзия. Интересно впомнить стихи, которые сродни кино. Первое, что мне пришло в голову, это поразительно лаконичное и ёмкое стихотворение Ходасевича:
Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.
Свет промелькнул, занавеска взвилась.
Быстрая тень со стены сорвалась
Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг - а иной.
Чем не мгновенный кинокадр, в котором есть всё: и звук, и свет, и динамика, и напряжённая атмосфера надвигающейся катастрофы, и резкая, неожиданная, шокирующая смена ракурса в двух заключительных строках. Стоящая под ударением буква "а" заставляет слова "счастлив" и "падает" звучать, как крик. Крик отчаяния, и одновременно освобождения, избавления от рутины, морока и несуразностей жизни.
Даже не знаю стоит ли возвращаться к банальной теме конца искусства, и, в частности, литературы, возникшей в связи с японским симпозиумом, но фильм Бертолуччи свидетельствует об одном - жизнь продолжается. Ощущение конца возникает лишь тогда, когда слишком хлопочешь о том, чтобы сделать небывалое и всех удивить. Чаще всего в этом случае обнаруживаешь, что выдумал велосипед. Вряд ли это чувство появляется, когда занят лишь тем, чтобы адекватно выразить себя в данный момент. Составляющие наш мир элементарные частицы всё ещё таят в себе нерастраченный заряд и способны на многое. Достаточно малого сдвига, неожиданного ракурса, слегка изменившейся интонации - и старое начинает звучать по-новому:
счастливая с виду звезда
с небес обещает всю ночь
пока под мостом есть вода
любить эту воду как дочь
пока остаются поля
а мимо бегут поезда
и в море уходит земля
любить обещает звезда
До неприличия затёртые слова - вот что наличествует в этом восьмистишии Дениса Новикова. Но всё не так просто. Если "счастливая звезда" знакома всем, то "счастливая с виду" - вряд ли. И обещание звезды "любить эту воду как дочь", весьма интересно. А обещание, повторенное дважды, (да ещё с немыслимой рифмой "звезда - поезда"), окончательно убеждает нас в том, что это стихи. И необычны они вовсе не тем, что отсутствуют знаки препинания, а тем... Впрочем, уже и так ясно всё ясно.
И снова возвращаюсь к фильму. Единственно, что мне мешало полностью в него погрузиться - это перевод. И дело не в содержании. Огромную роль в фильме играет голос, его особый тембр, неподражаемая интонация, совершенно своя, ни на кого не похожая манера говорить у каждого из героев. Может ли бесцветный (пусть даже небесцветный) голос переводчика не разрушить неповторимую ауру картины? Слава Богу, ему не удалось полностью заглушить оригинальный звук. А если бы фильм был дублирован? Дубляж равноценен замене оригинальных стихов переводными.
Читая эссе знаменитого мексиканского поэта Октавио Паса о переводе, наткнулась на такое высказывание: "В идеале цель поэтического перевода, по исчерпывающе точной формуле Поля Валери, состоит в том, чтобы оказывать то же самое воздействие другими средствами." Но возможно ли это? Голос неповторим. Тот же Пас в своём эссе пишет: "Понять стихотворение значит прежде всего его услышать. Слова входят через слух.... Читать стихи - значит слушать глазами...". Если вспомнить слова Мандельштама о том, что он работает с голоса, то выходит, что голос имеет для поэзии решающее значение и заменить его - пусть даже прекрасным, но иным - значит создать другое произведение. Когда я читаю переводные стихи, я не знаю, что читаю. Оригинал? Стихи переводчика?
Писание стихов - это мучительная попытка прорваться к себе и к другому. Оба эти этапа давно сформулированы Тютчевым: "Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?" Стихи есть удачный или неудачный результат такой попытки. Они заряжены энергией заблуждения, позволяющей снова и снова делать эту отчаянную попытку. При переводе закон сохранения энергии не действует. Переводчик работает с готовым материалом, он привязан к тексту. И хотя перевод - это тоже творчество, но оно носит иной характер. Это уже не превращение НИЧТО в НЕЧТО (как у поэта), а превращение НЕЧТО в НЕЧТО ДРУГОЕ. Оба эти занятия - попытка с негодными средствами, и всякая удача на этом пути - чудо.
После второго тютчевского вопроса я бы поставила не один, а несколько вопросительных знаков. "Другому как понять тебя???" Нужен ли поэту (и вообще художнику) другой? И всегда ли он есть? А если есть, то захочет ли понять? А если захочет, то возможно ли это в принципе?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: