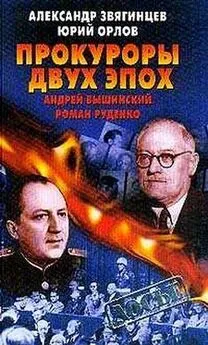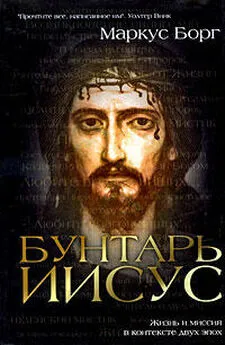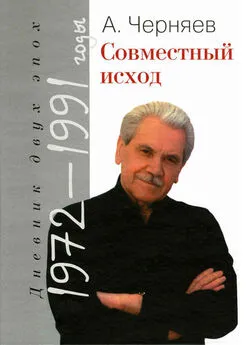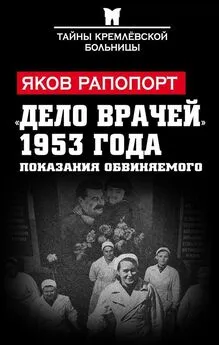Я Рапопорт - На рубеже двух эпох (Дело врачей 1953 года)
- Название:На рубеже двух эпох (Дело врачей 1953 года)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Я Рапопорт - На рубеже двух эпох (Дело врачей 1953 года) краткое содержание
На рубеже двух эпох (Дело врачей 1953 года) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
София Ефимовна Карпай, врач кремлевской больницы, арестованная в 1950 году, волнуясь, рассказала мне, при случайной встрече летом 1953 года, об очной ставке в тюрьме с М. С. Вовси, В. Н. Виноградовым и В. X. Василенко. Они уличали ее в выполнении их "преступных" заданий при лечении больных. Она категорически отрицала не только выполнение этих заданий, но и самое получение их. На нее эта очная ставка произвела впечатление тяжелого бреда. Но это не было бредом: это было выколоченное из "обличителей" задание следственных органов по "делу врачей". Разумеется, очная ставка происходила не в уютном кабинете, в котором происходят интимные деловые беседы на высшем уровне, как это показывают на телевизионных экранах. Эта ставка, как обычно водится, происходила под неусыпным наблюдением тюремщиков, строго следящих за выполнением, без всяких нарушений, разработанных заданий, данных "расколовшимся". Присутствие тюремщиков было реальным напоминанием им о том, что их ждет при недостаточном "усердии".
Так "расколовшиеся" становятся свидетелями обвинения. Можно ли их обвинять или резко порицать? По выходе из тюрьмы мое отношение к ним было именно таким, и я не знал, как я себя поведу при встрече с бывшими сопроцессниками - "расколовшимися". Но в дальнейшем я критически пересмотрел свое отношение. Я понял, что вообще нельзя безотказно требовать от людей героизма. Можно ли требовать от всех людей одинаковой силы сопротивления одному и тому же чрезвычайному воздействию? Диапазон такого сопротивления чрезвычайно широкий - от полного отсутствия сопротивления до адекватности воздействию, где противодействие равно действию. Индивидуальность проявляется и в избирательном отношении к качественному характеру воздействия. Один и тот же человек может вступить в единоборство с танком и падать в обморок при виде мыши или иглы шприца, нацеленной на него для производства инъекции.
Один мой близкий друг, известный ученый, совершенно откровенно сказал мне, что если бы он был арестован, то, зная себя, в течение получаса он бы "скис" и подписал бы все, что ему предложат, и сделал бы все, что от него потребовали бы.
Таков был общий страх перед пытками, которым подвергаются узники и сведения о которых проникали в массы в памятные 1937-1938 годы. Была полная безнадежность в возможности устоять перед ними и уверенность, что они рано или поздно закончатся требуемым признанием. В. Н. Виноградов говорил, что он сразу решил не дожидаться пыток и без них выполнять все требования тюремщиков, среди которых было и обвинение в шпионаже в пользу Англии и Франции.
Мы преклоняемся перед мужеством и с благоговением относимся к памяти тех, кто выдержал все гестаповские пытки и не пошел по пути предательства, и со смешанным чувством жалости и презрения относимся к тем, кто не устоял. Но борцы погибали за идею. А репрессированные? Во имя какой идеи погибать? Что даст народу им же оплеванная их смерть? Нет морального стимула для сопротивления методам, "строжайше запрещенным советскими законами" (из правительственного сообщения об освобождении медиков). А в то же время маячит призрачная возможность избежать мучений, пыток и даже позорной смерти путем признания всего того, что требуют от тебя тюремщики. Несчастные в этой призрачной надежде (никогда, впрочем, не оправдывавшейся, как показывает опыт прошлых лет) скатываются на путь оговора даже своих близких друзей, а иногда и родных. Сам М. С. Вовси дал должную характеристику самому себе в период своего пребывания узником МГБ.
Спустя 6 лет после освобождения, которые он провел в заслуженном почете крупного ученого, замечательного врача и сердечного человека, у него развилась саркома ноги, потребовавшая ее ампутации (он вскоре после этого умер). Я навестил его на следующие (или вторые) сутки после операции. Он был в слегка возбужденном эйфорическом состоянии и сказал мне: "Разве можно сравнить мое теперешнее состояние с тем, которое было тогда? Теперь я потерял только ногу, но остался человеком, а там я перестал быть человеком". Так "та система" лишала ученых, культурных и вполне добропорядочных в обычных условиях людей, их человеческих качеств. Какую же драму надо пережить, чтобы такое ужасное событие, как потерю ноги из-за злокачественной опухоли (о перспективах М. С., конечно, знал), считать пустяком по сравнению с фантасмагорией, созданной чудовищной фантазией организаторов "дела врачей"? Можно ли подходить с непреклонным осуждением жертв системы, перед жестокостью которой не могли устоять и закаленные в борьбе старые революционеры с опытом царских тюрем и каторги? Был все же моральный стимул и в сталинских застенках у узника сохранить свое достоинство человека. Таким моральным стимулом могло быть только твердое, бескомпромиссное и непоколебимое решение устоять перед наглым изуверством, не уступить ему, не идти по пути признания реальностью чудовищной фантазии тюремщиков, не предавать, т. е. не оговаривать никого. Но, кроме мобилизации нравственных сил, для этого нужна была и мобилизация физических сил, в которых у многих из арестованных пожилых людей, конечно, был недостаток. Над всем этим висело давящее убеждение в том, что рано или поздно тюремщики при помощи всей своей изощренной системы "вырвут из горла", по рекомендации Молотова, нужное им признание, так лучше уж сделать его рано, не дожидаясь испытания этой системой.
"Сознавшиеся" не нуждаются в оправдании, т. к. оправдание - антитеза обвинению. Надо их понять, а следовательно - простить, как этого требует известная французская поговорка.
Пересматривая критически свое поведение в тюрьме и во время следствия, я не знаю, смог ли бы я устоять до конца при твердой воле не сдаваться и при мобилизации своих физических возможностей для этого. Я вспоминаю один эпизод - это было в период, когда в ходе следствия чувствовалась напряженность, следователь предупреждал меня, что для признаний остается мало времени и что если завтра я их не сделаю, то он откажется продолжать следствие и передаст его в другие, видимо, более жесткие руки. Я был уверен, что в этом было предупреждение о еще более жестких методах допроса. Накануне предполагаемого мной "дня пыток" из соседнего кабинета доносились вопли истязаемого, дикая ругань тюремщика и требование сообщить, какую контрабанду арестованный перевозил. Вопли несчастного переходили в какие-то хрюкающие стоны обессиленного истязанием человека. Может быть, это была устрашающая меня инсценировка? Когда меня на следующий день привели на допрос, меня трясло, как в тяжелой лихорадке, от ожидания пыток и от чудовищного напряжения воли, чтобы выдержать их. Следователь заметил мое состояние и даже участливо предложил вызвать врача, от чего я отказался. Я ему сказал: "Ведь вы собираетесь применить пытки, зачем же тут врач?" На это последовала ироническая реплика: "Думаете, что на дыбе вздернут?", дав понять, что пытки меня сегодня не ожидают. Нервы иногда не выдерживали и (что скрывать!) разрядкой бывали короткие слезы, но решимость выстоять не покидала никогда. Я часто слышал упреки следователя: "Что за показания вы даете? Вы точно бросаете кости на собачью сковородку". Это была образная, но совершенно точная оценка тех материалов из обычной прозекторской практики, которые я ему давал и которые он мог получить на любой больничной клинико-анатомической конференции. Ставя мне в пример поведение других "сопроцессников", которые, может быть, и спасут себе жизнь, он в виде тяжелого упрека мне говорил: "Вас ведь на открытый судебный процесс вывести нельзя". Я понял из этого упрека, что будет открытый суд над "преступниками в белых халатах", в котором они будут сознаваться и каяться в своих чудовищных преступлениях, как и многие несчастные предыдущих судебных процессов, осужденные, несмотря на это, на смерть и посмертно реабилитированные. На такое покаяние с моей стороны мои тюремщики не рассчитывали. Этот упрек я тогда рассматривал как критерий своего поведения во время допросов и сейчас, как и тогда, считал его одобрением в свой адрес. Значит, я не изменил своему твердому решению, принятому с полной и активной поддержки моей незабвенной, мужественной и нежной Софьи Яковлевны - не уступать насилию перед требованием ложных показаний. На меня не действовали различные следовательские приемы, кроме уже описанных, вроде ругани по моему адресу: "У, вражина, и как только можно было терпеть такую вражину" и др. Я выслушивал это равнодушно. Равнодушно я относился и к попыткам следователя воздействовать на мое самолюбие, когда он отказывал мне в уважении. Он говорил: "Вас даже уважать нельзя. Бывают арестованные открытые враги, не скрывающие этого даже здесь. Их уважаешь, хотя они и закоренелые враги. А вы хитростью стараетесь скрыть это". Но такие "удары" по моему самолюбию вызывали только внутренний смех. Я, вообще, всегда очень ценил уважение достойных людей, был очень чуток к нему и очень хотел и в тюрьме сохранить и его, и собственное уважение к себе. Я не раз в своей одиночной камере цитировал (про себя, конечно) Рылеевские слова из четверостишия - "Тюрьма мне в честь, не в укоризну...", выцарапанные им на оловянной миске в каземате Петропавловской крепости. Между прочим, в отличие от Петропавловского каземата, в Лефортовском это не удалось бы. Когда я однажды пытался выцарапать на куске мыла какое-то слово (оно должно было мне напомнить контрвозражение следователю по предыдущему допросу), немедленно открылась дверь камеры и вошедший надзиратель потребовал дать ему мыло. Пришлось при выполнении его требования затереть пальцем выцарапанное слово.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: