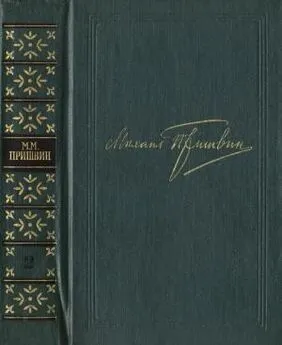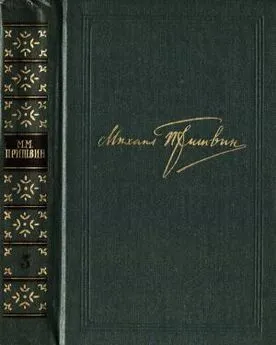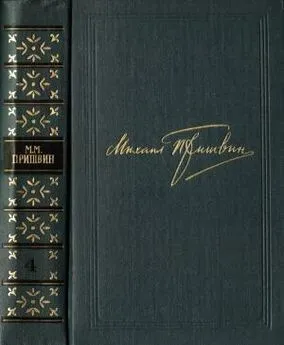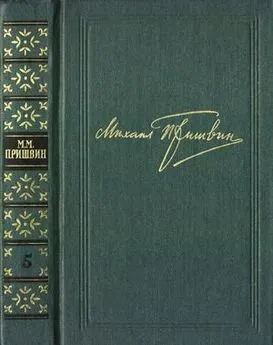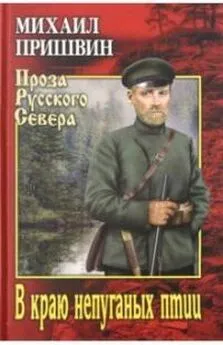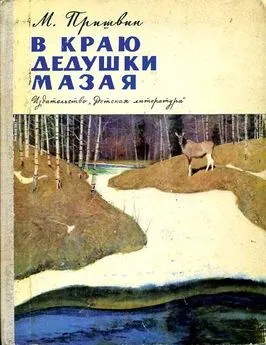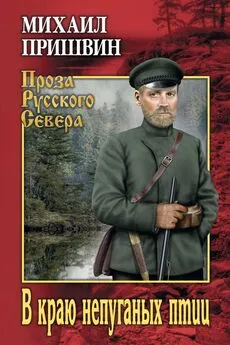Михаил Пришвин - Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
- Название:Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком краткое содержание
Во первый том восьмитомного Собрания сочинений М. М. помещены его ранние произведения, в том числе такие известные, как «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и другие.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Едем медленно, едва-едва обгоняем возвращающихся по сухим боковым тропинкам босых паломников со Светлого озера.
Наконец в одном перелеске встречаем старшего ученика Дмитрия Ивановича, тихонравного Николая Андреевича; сидит он на пне и безмолвно нам улыбается. Знает, что едем, ждет. В руках у него, кроме огромной книжищи, узелок.
– Николай Андреевич, – мигает и шепчет мне учитель, – здорово плоти прихватывает, начетчик райский, а освободиться не может.
Старший ученик, прикрываясь тихой улыбочкой, развертывает узелок, показывает новое, купленное у баптистов, Евангелие и картон с золотыми буквами: «Бог есть любовь». Порадовались встрече, едем дальше, ученик босой идет рядом с телегой по сухой тропе.
В ближайшей деревне, Малиновке, встречает нас другой ученик, Алексей Ларионович, бледный, с острой жидкой бородой, резкий и взвинченный.
– Этот, – рекомендует учитель, – далеко ушел.
В следующей деревне Алексей Ларионович исчезает и приводит недавно обращенного молодого ученика, Федора Ивановича.
– Этот, – любовно говорит учитель, – молодой, а от всего освободился.
Приходят другие ученики, ничем не замечательные, с широкими и жидкими бородами, с черными и светлыми.
Телега, окруженная босыми учениками, направляется в Шалдеж, где живет покровитель немоляков Иван Иванович.
Знаменитые Керженские леса в той части Семеновского уезда, где мы едем, вырублены. Сохранились пни, перелески и отдельные, ни к чему среди поля стоящие, деревья. Прежде в Керженских лесах (теперь в Ветлужских), как медведи, скрывались пустынники; никто из них, наверное, и не думал о духовном смысле Священного писания. Теперь же, когда исчезли лесные таинственные стены, прежние отшельники, словно рыба в спущенном пруду, осели на пни, глядят в огромные книжищи и переводят, переводят с «плоти» на «дух».
В этом переводе Писания с бога на человека, с плоти на дух, умирает пустынник, похожий на медведя, рождается не простой человек. Имя бога, без толкования, не принимает.
– Слава богу, – говорю я спутникам, – денек славный выдался.
Николай Андреевич оглядывает поля, луга, товарищей, останавливает взгляд на молодом Федоре Ивановиче и говорит:
– А вот некоторые бают, хозяина нету, так стоит хозяйство порожнее. Может ли это быть?
– Много вы, Николай Андреевич, перевели, – ответил Федор Иванович, – а Сам-то у вас в женском сарафане остался.
– Вы весь во плоти, – поддержал своего друга Алексей Ларионович, – воистину на вас прытко длинный сарафан.
Одни ученики поддерживают Алексея Ларионовича, другие Федора Ивановича, а сам косматый учитель лукаво перемигивается, подсмеивается и даже слегка похрюкивает. Всю правду он знает и еще сверх нее что-то, а потому молчит.
«Вот, – размышляю я, – мы до сих пор говорили о Христе, но как же Отца-то перевести? Если и его перевести на дух, то хозяйство рассыплется. Как жить мужику, земледельцу без хозяина? И жаль мне Отца».
– Кто же тогда, – спрашиваю я Федора Ивановича, – сотворил человека?
– Слово, – отвечает Федор Иванович, – от него и начался духовный человек. Вначале было Слово.
– Духовный… а тот… обыкновенный простой человек?
– Ветхий человек? Так тот же из глины сотворен. Он что… Он – пшик!
– А там? За гробом?
– Пшик по всем статьям. Писание про нашу, про здешнюю жизнь писано.
– Господь всемогущ, – строго сказал Николай Андреевич, – что там – неизвестно. Все на притчу нельзя перевести.
– Все притча! – крикнул в ответ Федор Иванович. – Гроб – одно только неразумение наше, читай книги, освобождайся. Когда все прочтешь и переведешь, настанет вечная жизнь, духовная, а не телесная.
Довольный, поглядывает на молодого ученика Алексей Ларионович; довольный, лукаво похрюкивает сам косматый учитель и одобряет: освободился, молодец, освободился, от всего освободился. Ехидно улыбается Николай Андреевич и ставит коварный вопрос: что значит евангельское «на что вы освободили осла; он был богу нужен»?
– Освободили осла, – ответил, не подумав, обрадованный успехом Федор Иванович, – значит, последние лямки отвязали, выпустили на свободу.
– Вот видите, – обращается ко мне Николай Андреевич, – он и осла на себя перевел.
– Вы все разные, – говорю я, – какое же это согласие?
– Все разные, все до одного разные, – подхватывает Федор Иванович. – Бог есть свобода, а они связанные, не получили мужества: Алексей Ларионович почти вовсе скинул сарафан, другой из-под него колено выставил, третий побольше обнажился, только вот Николай Андреевич у нас весь в бабьем одеянии.
– Так на что же осла-то освободили? – поддразнивает Николай Андреич.
– А вот на что, – отвечает молодой человек. – Для свободы освободили, для духа; буква убивает, дух животворит. Путался я в этом Писании, тонул в нем, аки олово в Черном море. Читаю: Черное море расступилось. Может ли это быть? Оно-то не узко. Хвать! А море-то буква. Я тонул в ней, путался в длинном женском сарафане. Тонул, а дух творил и освободил. Не нужно мне ни икон, ни Библии, я так все понимаю. Не боюсь я теперь, что и в муку пойду; умрем мы, как лошади, как коровы, как мухи, как тараканы.
– Так на что же тебе просвещаться, когда все одинаковы: и вор, и начетчик, и лошадь.
– Нет, я благодарю Писание, оно меня освободило, как камень отвалило.
– Федор Иванович, – с гордостью сказал его учитель Алексей Ларионович, – от всего освободился.
– На что вы освободили осла, – пробормотал тихонравный Николай Андреевич.
А сам учитель, вождь немоляк, поворачивает свою косматую голову, посмеивается, похрюкивает. И опять я мысленно одеваю его в одежду культурного человека, умываю и силюсь вспомнить, на какого это очень знакомого профессора похож он?
В селе Шалдеж мы встретились с баптистами. Пришел от них посланный, зовет послушать богослужение.
«Вот он, – подумал я на первых порах, – исход для немоляк, вот она, приготовленная европейской реформацией, удобная секта для объединения во Христе людей, потерявших веру в „плоть“».
Но я ошибся: немоляки и слышать не хотят о баптистах. Новые обряды им кажутся фальшивой подделкой старых.
Даже такая тоска по плоти, как у Николая Андреевича, недостаточна для перехода к баптистам.
Но все-таки, говорят, немоляки из других согласий многие переходят. Из староверства переходят в новую австрийскую церковь, из немолячества в баптизм. Одних притягивает церковь видимая, со старинными образами и длинными службами, других – «плотской Христос», объединяющий, успокаивающий размечтавшихся немоляк.
Согласие Дмитрия Ивановича отказывается посетить баптистов и желает ехать прямо же к своему покровителю Ивану Ивановичу. Я уговариваю. Мне хочется сравнить европейскую и русскую реформацию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: