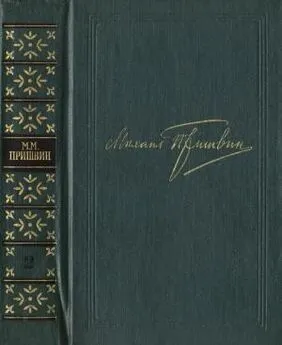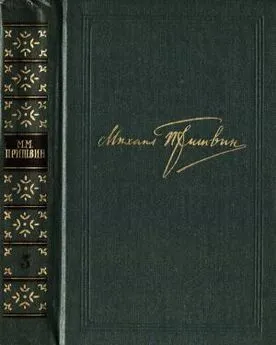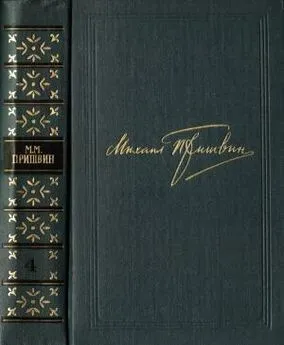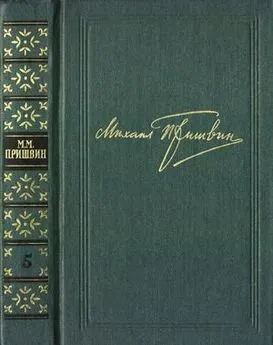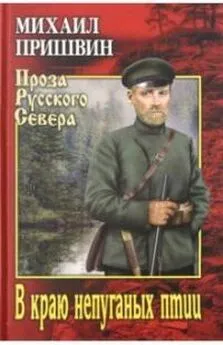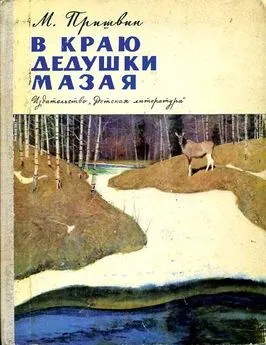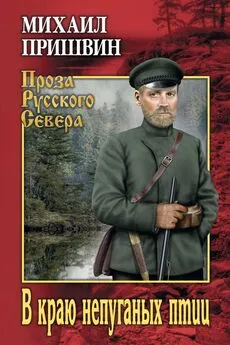Михаил Пришвин - Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
- Название:Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком краткое содержание
Во первый том восьмитомного Собрания сочинений М. М. помещены его ранние произведения, в том числе такие известные, как «В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и другие.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– X., хромой? – спросил купец.
– Вот уж не знаю, – ответил господин, – он мне писал, а так я его не знаю.
– Он хромой, – сказал купец, – ему ходить трудно, вот он вам и рекомендовал гостиницу поближе к своему дому, чтобы к вам почаще ходить. Плохая гостиница; первое неудобство я назвал, второе – насекомые, третье – прислуживает пьяный мужик.
Купец, загибая пальцы, перечислил все неудобства «Петербургской гостиницы». Пассажиры были в ужасе.
– Куда же, куда же нам деться? – спрашивали купца.
– Остановитесь в «Московской», – ответил он, – там очень хорошо.
И все благодарили купца, как благодетеля.
– Здорово я их! – сказал купец мне, когда нас с ним опять перевели во второй класс. – Здорово, ведь хозяин-то «Московской гостиницы» – я!
И закатился добродушнейшим смехом русский человек, хохотал до слез, меня заразил смехом.
– А вы коровьим маслом торгуете? – спросил он, успокоившись.
Долго допрашивал меня купец и наконец добился своего, узнал, чем я занимаюсь.
– Пишете, – одобрил он, – это правильная точка.
– Какой вы партии? – спросил я спутника.
– Партии я, конечно, черносотенной, – ответил он, – а в душе и по совести – трудовик…
И тут же, по русскому обыкновению, рассказал всю свою жизнь, как доказательство того, что он – трудовик. И правда, передо мной прошла трудовая жизнь. Мыл рюмочки у «Яра» – вот начало карьеры. И через пятьдесят лет – собственный трехэтажный каменный дом, «Московская гостиница» в N. Вся жизнь как лишение, как подчинение себя каким-то мудрым правилам, найденным тут по пути, в самом процессе жизни. Приходилось даже отказывать себе в любви к дочери.
– Жена может любить ее, – рассказывал отец, – а мне нельзя: бояться не будет.
Так описывал купец свою жизнь как подвиг, в результате которого – каменный дом. Поезд приближался к монастырю, где раньше жил святой человек. Я заговорил о подвижнике. Купцу не хотелось начинать об этом. Я настаивал.
– Не верю я им, – сказал наконец мой спутник, – я верю только богу и умному человеку, – и решительно отклонил разговор о религии.
«Тоже аскет!» – приходили мне в голову отрывки из современных рассуждений о мещанстве как о результате церковного воспитания народа. И так ясно было теперь, что этот человек произошел не от церкви, не от интеллигенции, а прямо от земли, что передо мной – истинно русский, крепкий земле человек.
Мы говорили о земстве.
– Народники! – ядовито сказал купец. – Мы за народ, выбирайте нас, говорят, поют на все лады. А народ…
Купец вдруг надулся от смеха, залился на высочайшую ноту, не удержался на ней и, весь багровый, как-то пфыркнул губами и щеками.
– А народ, – хотел сказать что-то купец, но опять залился на ту же высокую ноту и опять пфыркнул. – Народ им верит, – сказал он наконец, – знаете наш народ. А они-то, они-то разливаются! Конечно, люди образованные, им и карты в руки. Народники!
Купец мой вдруг совсем преобразился. И как далеко было теперь то его добродушие, с которым он зазывал пассажиров первого класса в свою «Московскую гостиницу». Он теперь говорил ядовито одно:
– Народники!
– Кто они? – спросил я.
– Все, – ответил купец, – теперь и графы, дворяне, – все за народ. Да хотя возьмите Некрасова, на что уж народник был?
– Поэт Некрасов? – спросил я.
– Стихотворец, – ответил купец, – сочинял стихи о народе. А в душе?
– И в душе Некрасов любил народ, – заступился я.
– А в душе у него реакция, – ответил купец. – На словах они все народники, а в душе у всех реакция.
– И граф Толстой? – спросил я.
– Политикан! – решительно сказал купец, – этот говорил другим отдать землю, а сам не отдавал.
– Да ведь он же ушел из своего дома и умер от этого.
– Фокусы, – сказал купец, – ничему не верю, графские фокусы. Вы знаете, почему он ушел? Очень просто все. Остарел, писать сам уж не мог. Дай, думает, хлеб им дам. И дал. Посчитайте теперь, сколько о Толстом написано. Сколько это стоит, если на деньги перевесть? А куда пошло все это? Мужикам? Поди-ко! Да все тем же писателям. Это он для своего же брата и старался. Это все фокусы. Политикан!
– Как же теперь быть? – спросил я купца.
– Очень просто, – ответил он, – народ хотя и глуп, а умнеет. Настанет час, и всех на осинку: дворян, князей, графов…
– И писателей? – спросил я.
– Да и писателей, – ответил купец…
О двух крайностях *
– Подожди, что скажет двенадцатый год!
И спор кончается. Собеседник умолкает, потому что за будущее теперь никто не поручится, да и слово-то какое: «двенадцатый»!
В этом таинственном двенадцатом году нечто должно совершиться. Что – бог знает: многие говорят, будто в этом году отойдет мужикам какая-то большая земля, которую француз под Москвой оставил.
Слышал я первый раз о двенадцатом от молодого парня на телеге, когда добился его расположения, потом по секрету сказали на ярмарке, потом сказал один батюшка, и теперь часто слышу:
– Двенадцатый… Ну…
– То-то, двенадцатый.
Прислушиваясь к народу, можно подумать, что в стране – какой-то заговор и слово «двенадцатый» служит паролем. Но это – не заговор, а только одно упование, подобное чаянию конца света. В народе до сих пор не перевелся тип предсказателя, как вообще мало что переводится в народе, а только отодвигается на задний план.
– Народ стал задумчивый и невеселый, – говорят знатоки сельской жизни, – и все его куда-то тянет, места себе не находит и веселья не видит в вине.
Пьют много, пьют, быть может, так, как никогда, а веселья себе не находят, пьют и толкуют о двенадцатом. А жены невеселых пьяниц в Петровский пост вереницей тянутся к святым местам просить у господа бога защиты от пьяных мужей.
Посмотрите на взволнованное ветром море наливающейся ржи, приглядитесь внимательно и непременно увидите между волнами темные бабьи головы, плывущие по ржи, как челноки по морю. Это – жены пьяниц по богомольной тропе текут к ручьям, колодцам и чудотворным иконам. Вот подходят они к святому колодцу, и, далеко еще не доходя, одна или две из них начинают взвизгивать и смеяться. Что ближе, то хуже: визг переходит в певучий вой, а смех – в дикий хохот. Кликушу подхватывают, раздевают и спихивают в холодную воду. Стон и хохот смолкают, женщина лишается чувств, и ее вытаскивают полежать на траве. Лежит почерневшая, безобразная, с открытым ртом, а рука судорожно сжимает припасенную для святой воды бутылку из-под казенного вина. Другие женщины, набирая в рот святой воды, переливают ее в рот истеричной, не помогает, – льют в открытый рот масло, курят ладаном. В конце концов кликуша открывает глаза. Журчит ручей. На ивах соловьи поют. Везде бегают солнечные зайчики. Кликуша ничего этого не видит и не слышит. Вялая, сонная, подходит к ручью и пустую бутыль казенного вина наполняет святой водой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: