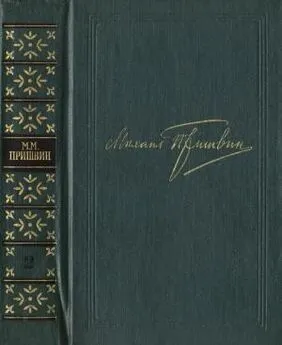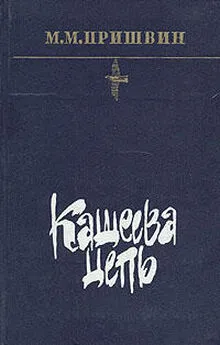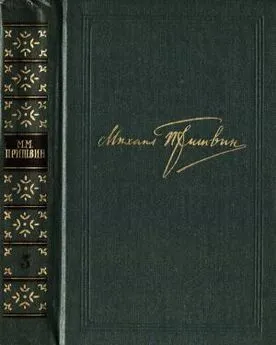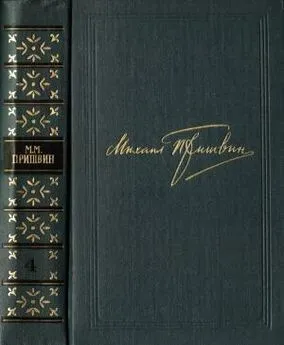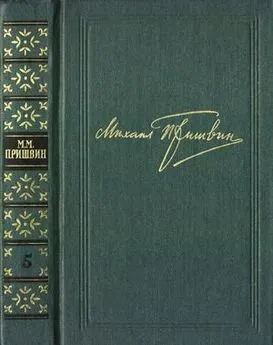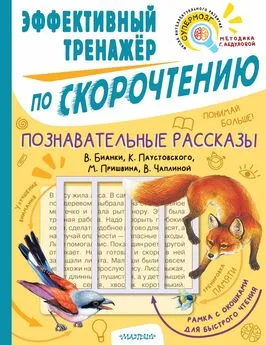Михаил Пришвин - Том 2. Кащеева цепь. Мирская чаша
- Название:Том 2. Кащеева цепь. Мирская чаша
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Том 2. Кащеева цепь. Мирская чаша краткое содержание
Во второй том Собрания сочинений М. М. Пришвина входят автобиографический роман писателя «Кащеева цепь» и повесть «Мирская чаша», а также рассказы, написанные в 1914–1923 гг.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 2. Кащеева цепь. Мирская чаша - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Огромная дистанция! – согласились все.
Только упрямый Рябов по-прежнему настаивал на своем:
– Лежат мертвецы рядом, разлагаются, друг другу не пахнут, а подходит живой человек и не может терпеть.
– Отойди в сторону; пусть мертвые с мертвыми, какое нам до этого касательство.
Так мало-помалу от моей трубки и ветхого Адама перешли вообще к обсуждению связи внутреннего мира с внешним, личного и общественного, к «божественному делу» Дарьи Васильевой и к суду над ней.
– Суд? – говорил «новодеревенский Христос», – вот мы сейчас здесь внутри сидим и все глазом видим, кто прав, кто виноват, а суд за каменной этой стеной, между ним и нами непереходимая пропасть.
Эту пропасть он почему-то назвал словом «Астраль» и объяснил ее так, что в каждом из нас три человека: плотский, душевный и духовный, пропасть Астраль лежит между средними людьми, где каждый знает только себя, а другого не видит. Так и судья не может увидеть нас: между судьей и нами пропасть Астраль.
– Эту пропасть судья перейдет, когда установит «я» внутреннего человека, а когда он установит, то увидит это свое «я» в другом человеке, в обвиняемом, и когда он это увидит, то признает виновным себя самого и, значит, судить ему будет некого: сам виноват. Поэтому сказано: «Не судите и не судимы будете».
На это я сказал, как же нам теперь при таком признании судить: вот сейчас нас позовут всех к присяге.
– Что же, – ответили мне, – и будем судить, как люди плотские и греховные, внутреннего человека это не касается, суд есть сила греха.
И, в самом деле, через несколько минут после этого разговора, все эти люди принимали присягу, целовали крест и Евангелие совершенно так же, как верующие православные люди. Как и обыкновенных людей, их вела к этому «сила греха».
Исключительный по суровости приговор суда над «Охтенской богородицей» не вызвал во мне обычного чувства сострадания, потому что я уже предвижу торжество внутреннего человека «Охтенской богородицы». Сострадание бывает там, где поруганная плоть ищет заступничества духа на стороне, наивно веря в соседа, восклицая: «Братцы, помогите!» А у хлыстов давно уже в себе самом найдено заступничество. Они вообще неистребимы ни с какой стороны. Хлыстовство – это другой конец староверства. Это – неумирающая душа протопопа Аввакума, теперь уже глубоко равнодушная к своей казненной плоти, бродит по нашей стране и вселяется безразлично в какую плоть.
Есть ли выход из хлыстовского порочного круга в широкую мировую жизнь? Я долго думал, что выхода нет, но вот на моих глазах в одной из сект, происходящих прямо от хлыстовства, совершилось воскресение мертвой греховной плоти. Внезапно, после долгих мучительных переживаний, у сектантов душа соединилась с плотью, и секта превратилась в социалистическую общину. Поучительную историю этой попытки перейти пропасть Астраль по близости впечатлений мне еще очень трудно передать.
Отец Спиридон *
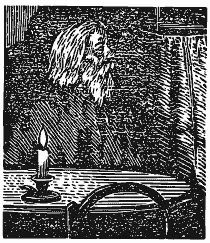
Перед войной, когда жили мы не спеша, удалось мне до самого океана пройти весь Северный край, все это государство, умершее и ныне существующее, как сказка, внутри живого, обыкновенного. Встречи с людьми далеких времен бывали в лесах, на берегах порожистых рек и спокойных озер. Мешались по воле сказителей времена и сроки, но одно было у всех:
– Близок час, – говорили они, – скоро Хозяин будет собирать урожай, плоды падают зрелые, нивы давно побелели.
С улыбкой, как сказку, слушали мы тогда о признаках конца этого света: что телеграфная проволока опутала землю, что люди стали ходить под крышами-зонтиками, что всё сосчитали, и землемерная цепь антихриста пролегла по всем заповедным лесам Севера. Теперь, во время войны, без улыбки оглядываешься в ту сторону и думаешь: «Уж и вправду ли не сбывается, не Хозяин ли это у нас собирает свой урожай?!»
Обойдя все это умершее государство так, будто шел по земле, бывшей некогда морским дном, под конец я посетил древний город, столицу этого государства. Город остановил меня красотой великого множества древних храмов, а в лике всюду изображенного Христа было странное сходство с чертами суровых лиц поморов, и как будто он говорил, как поморы:
– Близок час, скоро Отец мой начнет собирать урожай, ветви склонились от зрелых плодов, нивы давно побелели.
Жизнь настоящего времени была в этом городе жалкая как рубище нищего. Но терялась мера текущего времени в этом древнем городе, и часто я здесь забывал даже часы завести. Время тут люди считали по звону к заутрене, к обедне, к вечерне.
– Ну, что ваши говорят? – спросит один.
Другой отвечает:
– Стоят, да вот сейчас к вечерне звонили.
Сколько сказаний, легенд и преданий сохранилось в городе: вот камень, на котором один святой приплыл сюда из Рима, вот умывальник, куда святой заключил черта и потом ездил на нем верхом, – это всем известно. А сколько тут неизвестного – ни перечесть, ни пересказать, двор каждого жителя неразрытый курган. Особенно нравилось мне одно сказание в мертвом городе, как некогда из оскверненного места в лесную глушь церковь ушла с семью праведниками и там теперь пребывает: умирает один из семи, на его место является новый, и так вечно, до скончания мира эти семь молятся, и этим держится, не обрываясь, род человеческий.
Есть в этом городе священник отец Спиридон, человек старый. Живет он, как обыкновенный священник, в одном из деревянных церковных домиков, женат, имеет детей. Матушка, тоже старая, еще с ним, дети разбрелись по свету. Когда я захожу к старику, то всегда вспоминаю сказание о семи праведниках. Стою на ступеньке дома, зимой заваленной снегом, без следа человеческого, с волнением ожидаю: «Жив ли, не ушел ли?» Вытягиваю из ворот проволоку, пускаю, что-то звенит, лает собака, а калитка все не отворяется. Я уже привык к этому долгому ожиданию, знаю, что матушка в это время мечется, ищет что-нибудь накинуть на себя. Открывается форточка: показывается лицо ее: отец Спиридон еще с нами. Гремят, звенят крючки, замки, всякие тяжелые запоры-засовы: за семью затворами живет человек, мимоходом пройдешь, ничего не увидишь. Я, хорошо знакомый, и то сколько привыкаю к тишине, окружающей старца.
– Матка! – зовет время от времени отец Спиридон свою матушку.
Она появляется с подносом, вся в ровных мелких морщинках и с таким вещным взглядом, что ничего от нее не укроется: пролети паутинка – дунет, проползи паучишка в булавочную головку – схватит. Заметила нагар на свечке, ни за что не успеешь разобрать, как она его удалила, только видишь – меркнет свеча без черного крючка в пламени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: