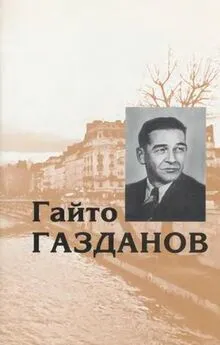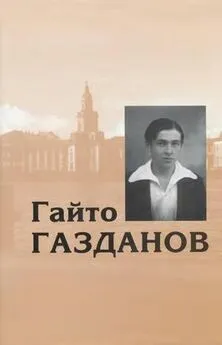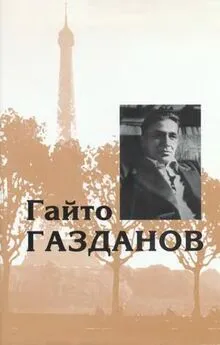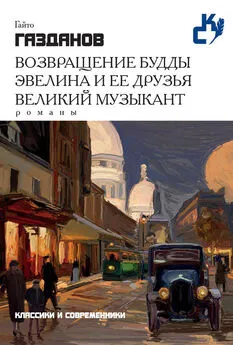Гайто Газданов - Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья
- Название:Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эллис Лак
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-902152-71-2, 978-5-902152-77-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гайто Газданов - Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья краткое содержание
В четвертый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика русской литературы, вошли последние романы Газданова, вышедшие при его жизни, выступление на радио «Свобода», проза, не опубликованная при жизни писателя, в том числе незавершенный роман «Переворот». Многие произведения печатаются впервые.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
То, что он был якобы начинателем злополучного социалистического реализма, это тоже, мягко говоря, не соответствует действительности: он был Максим Горький и писал так, как писал только он. То, что у него были подражатели, это известно. Но литературной школы он не создал и никогда себе этой цели не ставил, не страдал он также манией величия и считал, например, «Мать» плохим произведением.
Для него характерно то, что он всю жизнь учился писать. Трудно, мне кажется, найти другого писателя, у которого была бы такая разница в качестве между его ранними и поздними произведениями. «Буревестник», «Сокол» и другие его ранние вещи написаны как будто совсем не тем, кто впоследствии стал автором таких книг, как «Детство», «В людях», «Мои университеты», «Заметки из дневника» и последние рассказы. Характерно, что Горький написал о Толстом, пожалуй, лучшее, что было о нем вообще написано.
И хотя Горький прожил последние годы своей жизни в Советском Союзе, и хотя официально признан пролетарским писателем, он, в сущности, принадлежит весь к дореволюционному периоду и непосредственно связан с девятнадцатым веком. Никто не может упрекнуть Горького в отступлении от традиций русской литературы. Горькому, вероятно, не могла бы прийти в голову мысль о возможности переделывать свои произведения в соответствии с партийными указаниями, как это делали многие советские писатели. В отличие от Алексея Толстого, который презирал советскую партийную элиту, хотя и приспосабливал то, что он писал, к ее требованиям, Горький старался ее понять. Но к нему требований не предъявляли, зная, что он их бы не принял.
Его согласие с советской властью представляется, однако, чрезвычайно странным. Купить Горького было нельзя. Почестью и славой соблазнить было тоже нельзя, личной выгоды он никогда не искал. Не было у него и не могло быть того подобострастного раболепия к власти, которое характерно для многих советских писателей. Что же заставило его «принять» советский режим? На этот вопрос ответить трудно. Единственное предположение, которое кажется в какой-то мере правдоподобным, это его политическая наивность. Он был, казалось бы, достаточно умен, чтобы понимать происходящее.
Беседы за круглым столом
О русской зарубежной литературе *
ВЕДУЩИЙ: В наших беседах за круглым столом здесь, в Париже, мы до сих пор говорили о советской литературе, о советских писателях и поэтах. На этот раз я предлагаю поговорить о русской литературе за рубежом.
Как всем известно, одним из последствий того, что в Советском Союзе называют «Октябрем», было, кроме всего прочего, разделение в среде русской интеллигенции, вследствие чего значительная часть ее оказалась за границей. Центрами этой эмиграции были сначала Берлин и Прага, а затем Париж, где русские писатели, художники, поэты продолжали свою работу в течение многих лет. Так вот о произведениях этих писателей, об их значении мы сегодня и будем говорить.
В нашей беседе принимают участие поэт и литературный критик Георгий Викторович Адамович, писатель (искусствовед и критик) Владимир Васильевич Вейдле и наш парижский корреспондент Георгий Иванович Черкасов. Ведет беседу Виктор Шиманский.
Владимир Васильевич, может быть, вы начнете?
ВЕЙДЛЕ: Хорошо. Я думаю, что эмигрантская литература это как-никак очень большое и очень значительное явление. И когда в будущем станут писать историю русской литературы первой половины двадцатого века, то, конечно, нельзя будет не упомянуть писателей, оказавшихся в эмиграции: иначе история эта будет крайне однобокой. Точно так же, конечно, нельзя было бы ее писать, основываясь только на литературе эмиграции; но совершенно в той же мере нельзя ее писать и основываясь только на русской литературе Советского Союза.
Писатели эти уехали по разным причинам. Некоторые были просто высланы, как известно, в 1922 году; среди них были очень выдающиеся. Уехали они также не совсем в одинаковое время: некоторые в самом начале революции, другие через несколько лет. Главным центром литературной эмиграции не сразу оказался Париж. Сперва это были Берлин и Прага. Но очень скоро (с середины двадцатых годов) центром этим, действительно, стал Париж, хотя некоторые писатели, – отнюдь не сплошь незначительные, – жили и в других местах: в Америке, в Германии, в Чехословакии. Но это не так важно. Важно то, что эти русские писатели, которые попали таким образом за границу, оказались, конечно, в совершенно других условиях, чем у себя на родине. С одной стороны, эти условия можно оценивать положительно в том смысле, что они были свободны писать что им вздумается. С другой стороны, условия эти были, конечно, не те, в каких они жили раньше, в каких живут писатели у себя на родине.
Надо сказать, что ведь эмигрантские литературы, – не только наша русская двадцатого века, но и прежние, – играли отнюдь не малую роль; было же время, когда Польши как государства вообще не существовало, и вся литература Польши, и как раз величайшей ее эпохи, возникла в эмиграции вне Польши. Так что удивляться тому, что эмигрантская литература может в себе заключать очень значительных писателей и очень значительные произведения, совершенно не приходится. Это, так сказать, в порядке вещей.
Затем существует мнение не только в Советском Союзе, но и в самой эмиграции, – кое-кто его и здесь высказывал, – что писатель, оторванный от своей родины, не может писать так, как он писал бы, если бы не был от нее оторван… Это мнение ошибочно или, во всяком случае, не ко всем приложимо. Я думаю, что правы те писатели, которые остались в России, чувствуя, что писать так, как им хочется и нужно, – даже если всего написанного не удастся им напечатать, – они могут только в России, как, скажем, Ахматова или Пастернак. Но совершенно правы и те, которые уехали, потому что они знали, что ничего они в России не напишут и просто погибнут. Бунин, например.
Точно так же ошибочно было бы думать, что писатели, – те, которые писали и были известны уже раньше в России, – в эмиграции почему-то должны были писать непременно хуже, чем прежде. Это совершенно не верно, потому что тот же Бунин написал лучшие свои произведения, самые зрелые, самые значительные, именно в эмиграции. И вообще наиболее значительный период в творчестве Бунина начался во время первой мировой войны, когда вышел «Господин из Сан-Франциско» (1916 год), следовательно, совершенно естественно, что полное созревание бунинского таланта произошло именно за границей. Но, конечно, с другой стороны было бы неправильно говорить, что во всех случаях это одинаково. Парадоксально, что писатель, который так связан с русской жизнью, с русской обстановкой и с русскими людьми, с русским прошлым, с русской манерой чувствовать жизнь, как Бунин, однако, лучшее написал за границей; а вот у Мережковского, который со всем этим не был так тесно связан, получилось наоборот: все лучшее свое он написал до революции, а то, что написано им в эмиграции, по удельному весу, мне кажется, не может сравниться с тем, что написано им в свое время в России.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: