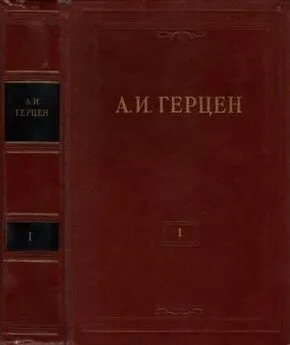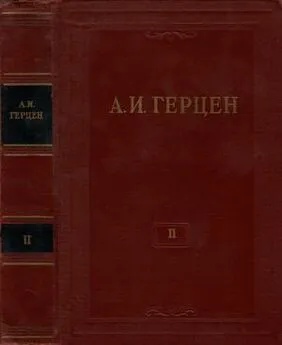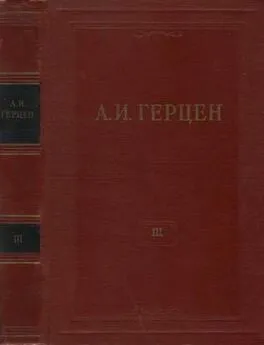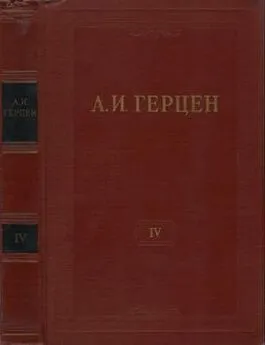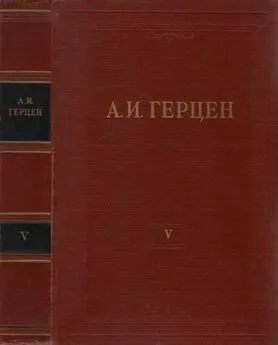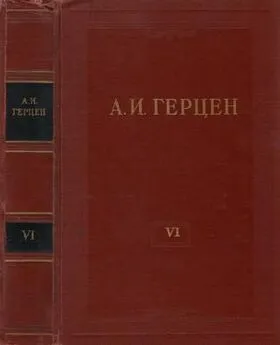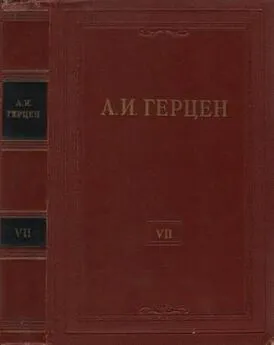Александр Герцен - Том 10. Былое и думы. Часть 5
- Название:Том 10. Былое и думы. Часть 5
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АН СССР
- Год:1956
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Том 10. Былое и думы. Часть 5 краткое содержание
Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя.
В томах VIII–XI настоящего издания печатается крупнейшее художественное произведение Герцена – его автобиография «Былое и думы».
Настоящий том содержит пятую часть «Былого и дум» А. И. Герцена, посвященную первым годам жизни писателя за границей. Часть состоит из разделов «Перед революцией и после нее», <«Рассказ о семейной драме»> и «Русские тени».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Былое и думы. Часть 5 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уверенные в победе, они провозгласили основой нового государственного порядка всеобщую подачу голосов . Это арифметическое знамя было им симпатично, истина определялась сложением и вычитанием, ее можно было прокидывать на счетах и метить булавками.
И что же они подвергнули суду всех голосов при современном состоянии общества? Вопрос о существовании республики. Они хотели ее убить народом, сделать из нее пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважает истину, пойдет ли тот спрашивать мнение встречного, поперечного? Что, если б Колумб или Коперник пустили Америку и движение земли на голоса?
Хитро было придумано, а в последствиях добряки обочлись. Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая начала линючим ковром ламартиновского красноречия, делалась больше и больше; июньская кровь ее размыла, и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон, забравший все в руки, т. е. и мещан, которые воображали по старой памяти, что он будет царствовать , а они – править .
То, что вы видите на большой сцене государственных событий, то микроскопически повторяется у каждого очага. Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатлевались так глубоко, так многосторонно на людях, как буржуазия.
Дворянство обязывало. Разумеется, так как его права были долею фантастические, то и обязанности были фантастические, но они делали известную круговую поруку между равными. Католицизм обязывал с своей стороны еще больше. Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязанностей, но сознание, что они тем нарушали ими самими признанный общественный союз, не позволяло им ни быть свободными в отступлениях, ни возводить в норму своего поведения. У них была своя праздничная одежда, своя официальная постановка, которые не были ложью, а скорей их идеалом.
Нам теперь дела нет до содержания этого идеала. Их процесс решен и давно проигран. Мы хотим только указать, что мещанство, напротив, ни к чему не обязывает, ни даже к военной службе, если только есть охотники, т. е. обязывает per fas et nefas [178], иметь собственность. Его евангелие коротко: «Наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память».
Отрицание мира рыцарского и католического было необходимо и сделалось не мещанами, а просто свободными людьми, т. е. людьми, отрешившимися от всяких гуртовых определений. Тут были рыцари, как Ульрих фон-Гуттен, и дворяне, как Арует Вольтер, ученики часовщиков, как Руссо, полковые лекаря, как Шиллер, и купеческие дети, как Гёте. Мещанст воспользовалось их работой и явилось освобожденным не только от царей, рабства, но и от всех общественных тяг, кроме складчины для найма охраняющего их правительства.
Из протестантизма они сделали свою религию, – религию примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика, – религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за нее ее оставил. В Англии чернь всего менее ходит в церковь.
Из революции они хотели сделать свою республику, но она ускользнула из-под их пальца, так, как античная цивилизация ускользнула от варваров, т. е. без места в настоящем, но с надеждой на instaurationem magnam [179].
Реформация и революция были сами до того испуганы пустотою мира, в который они входили, что они искали спасения в двух монашествах: в холодном, скучном ханжестве пуританизма и в сухом, натянутом цинизме республиканского формализма. Квакерская и якобинская нетерпимость были основаны на страхе, что их почва не тверда; они видели, что им надобны были сильные средства, чтобы уверить одних, что это церковь, других – что это свобода.
Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современное западное состояние наибольше развито, там, где оно вернее своим началам, где оно богаче, образованнее, т. е. промышленнее. И вот отчего где-нибудь в Италии или Испании не так невыносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции… И вот отчего горная, бедная, сельская Швейцария – единственный клочок Европы, в который можно удалиться с миром.
Эти отрывки, напечатанные в IV кн. «Полярной звезды», оканчивались следующим посвящением, писанным до приезда Огарева в Лондон и до смерти Грановского:
…Прими сей череп – он
Принадлежит тебе по праву.
На этом пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ останется непонятным, усеченным, может, ненужным, во всяком случае будет не тем, чем я хотел, но все это после, гораздо после…
Теперь расстанемтесь, и на прощанье одно слово к вам, друзья юности.
Когда все было схоронено, когда даже шум, долею вызванный мною, долею сам накликавшийся, улегся около меня и люди разошлись по домам, я приподнял голову и посмотрел вокруг: живого, родного не было ничего, кроме детей. Побродивши между посторонних, еще присмотревшись к ним, я перестал в них искать своих и отучился – не от людей, а от близости с ними.
Правда, подчас кажется, что еще есть в груди чувства, слова, которых жаль не высказать, которые сделали бы много добра, но крайней мере отрады слушающему, и становится жаль, зачем все это должно заглохнуть и пропасть в душе, как взгляд рассевается и пропадает в пустой дали… но и это – скорее догорающее зарево, отражение уходящего прошедшего.
К нему-то я и обернулся. Я оставил чужой мне мир и воротился к вам; и вот мы с вами живем второй год как бывало, видаемся каждый день, и ничего не переменилось, никто не отошел, не состарелся, никто не умер, и мне так дома с вами и так ясно, что у меня нет другой ночвы, кроме нашей, другого призвания, кроме того, на которое я себя обрекал с детских лет.
Рассказ мой о былом, может, скучен, слаб – но вы, друзья, примите его радушно; этот труд помог мне пережить страшную эпоху, он меня вывел из праздного отчаяния, в котором я погибал, он меня воротил к вам. С ним я вхожу не весело, но спокойно (как сказал поэт, которого я безмерно люблю) в мою зиму:
«Lieta no… ma sicnra!» [180]– говорит Леопарди о смерти в своем «Ruysch е le sue mùmmie».
Так, без вашей воли, без вашего ведома вы выручили меня – примите же сей череп – он вам принадлежит по праву.
Isle of Wight, Ventnor [181], 1 октября 1855.
Глава XXXIX
В декабре 1849 года я узнал, что доверенность на залог моего именья, посланная из Парижа и засвидетельствованная в посольстве, уничтожена и что вслед за тем на капитал моей матери наложено запрещение. Терять времени было нечего, я, как уже сказал в прошлой главе, бросил тотчас Женеву и поехал к моей матери.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: