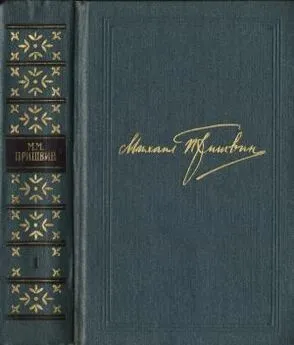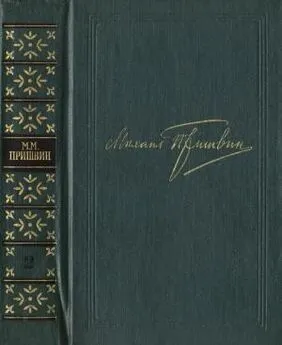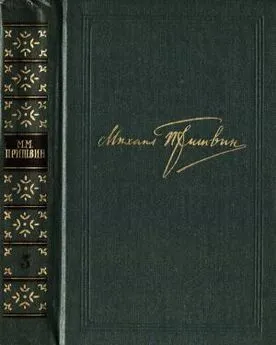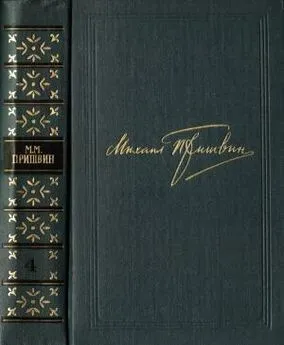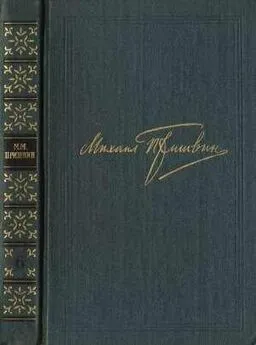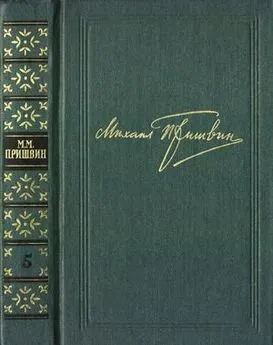Михаил Пришвин - Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли
- Название:Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли краткое содержание
В седьмой том Собрания сочинений M. M. Пришвина вошли произведения, созданные писателем по материалам его дневников – «Натаска Ромки» (Из дневника охоты 1926–1927) и «Глаза земли».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лист, упавший в листву, был ведь тоже единственный, как и я среди людей, и едва ли найдется во всем лесу другой такой листик, чтобы с ним мог жилка в жилку сложиться, а теперь в листве он будет слеживаться, вместе преть и соединяться с массой как удобрение.
Но тут сходство наше и кончается: у них гумус – это все, а у нас есть что-то еще сверх этого, и мы это что-то называем в собственном смысле человеком.
Тонкая осина в лесу достигала света и, поднимая высоко вершину, теряла все боковые сучки. Когда же лес вырубили, осина высокая и голая осталась с метелочкой листиков.
Теперь даже и от этих листьев осталось немного, и на каждый листик сейчас, как на клавиш, нажимает невидимый палец, и осенняя мелодия, какую мы все слышим, когда бываем в одиночку в таком осеннем лесу, кажется, исходит из-под невидимых пальцев.
Мелодия эта осенняя была скорбная мелодия человеческого духа о том, что не могут знать эти бедные деревья, какая любовь к ним содержится в душе человека, принужденного эти деревья рубить.
И еще в мелодии леса было о том, сколько погибло деревьев, с тех пор как тут был первобытный лес, умаляющий в ничто человека.
Сколько погибло великанов под топором и пилой, пока наконец человеческое сердце теперь может открыть в этой осенней мелодии, сколько любви содержится в сердце человека и сколько слез он должен пролить, чтобы можно было сказать наконец о любви.
Утро мягкое, росистое, стекла потные, на дереве там где-то за окном на каком-то листике капля дрожит – почему она дрожит в такой тишине? Дрожит и меняется в цветах – почему она все время меняется?
В лесу, куда луч проник, где-нибудь сквозь полог в окошке над поляной пар поднимается. Почему же пауки как нападут на какое-нибудь дерево, так всего его обвешают паутиной?
Почему в росистое утро прохладное особенно много паутины? Не потому ли, что роса их убирает каплями: делает заметными?
Мелькнула жизнь моя в своей подчиненности чему-то неведомому… и вдруг я подумал: а если б я выбросил из себя подчиненность, если бы я вывернулся и стал сам на то место? Я бы тогда стал Наполеоном, Александром Македонским или… пристроился редактором.
Я бы тогда не видал, как вчера, на мокрой лесной вырубке на опушке леса двойную радугу.
Ветер ли это сделал, или сама гусеница неосторожно приползла на самый край листа дерева и полетела вниз с высоты дерева? На пути ее была паутинка, и она гусеницу задержала. Это была очень маленькая гусеница, червячок в булавку толщиной и вдвое ее короче.
Какое ужасное положение было этой гусеницы! Привешенная к концу паутины, очень длинной, она раскачивалась по ветру, неустанно корчась, сгибаясь и разгибаясь.
Нас было двое сидящих на пнях против гусеницы.
– Безвыходное положение! – сказала подруга моя, принимая жизнь гусеницы к своему человеческому сердцу.
Я всегда мучусь, когда вижу положение безвыходным. Но я стараюсь удерживаться и не направлять свое такое внимание на червей. В этом случае через гусеницу я почувствовал сострадание к своему другу.
«Чем бы утешить ее?» – стал я думать.
Так прошло сколько-то времени, и вдруг я заметил, что гусеница на невидимой нам паутине стала повыше того места, где мы ее заметили; еще прошло время, и еще выше стала гусеница.
– Ползет! – сказал я.
Мы молча стали следить за гусеницей, и я очень радовался, веруя вообще смутно, что для деятельного существа нет положения безвыходного и что безвыходное положение рождает героя.
– Да, она ползет! – сказала моя подруга.
– Вот видишь, – ответил я, – героическая гусеница разрешает вопрос о свободе и необходимости.
– Ползет! – вздохнула моя подруга. – А что, если она ползет, а на другом конце паутины ее поджидает паук?
Мы так часто спорим в этом духе, и, наверное, так многие спорят и помогают пессимистам вместе ползти тоже по какой-то невидимой паутинке,
За липами, облетевшими, сквозными, золотится небо, на желтом черные все неправильные зубчики леса. Это с далеких времен волнующая тайна с предчувствием какой-то грани человека (помню, это же писал я в свои двадцать девять лет, этими же даже словами).
Вот это вживание в природу и является ключом к моей литературе, если только понадобится кому-нибудь этот ключ.
Есть радость, когда никого не надо, и ею насыщаешься сам в одиночку. Есть радость, когда хочется непременно ею поделиться с кем-нибудь другим, и без друга почему-то эта радость не в радость и может даже обратиться в тоску.
Моя природа есть поэтическое чувство друга, – пантеизм далеко позади, – друга-человека, составляющего вместе начало общего дела, начало коллектива.
Из тумана даже моросило, и, естественно, скука создавала в себе самом из мыслей своих небо туманное. Идешь, будто сам в себе или где-то на небе, не обращая ни на что внимания. Но вдруг (отчего-то всю жизнь стараюсь понять, отчего?) – вдруг с этого неба спустишься на землю, и тут пусть даже капля этого самого тумана, осевшая на последнем листе облетевшего дуба, встретит тебя с необычайной радостью, создавая в тебе жадное внимание.
Не знаю, откуда это берется, но только в этом все мое счастье, и этим «оптимизмом» я даже кормлюсь.
Когда у меня открылись глаза первого сознания, меня встретили Некрасов и Лермонтов. Однажды я прочитал «Ветку Палестины» и написал свои стихи: «Скажи мне, веточка малины, где ты цвела». Когда домашние мои мне сказали, что стихотворение мое взято у Лермонтова, я был возмущен и понять этого не мог.
Очень возможно, что из этого первого потрясения души родилось во мне такое мнение, что я не Пришвин, а Лермонтов. Я даже сказал это в сердечном признании брату своему Сереже, и тот, ничего не поняв, смотрел на меня большими глазами. Мне кажется, это было началом какого-то порочного пути, по которому же, однако, я потом не пошел: я сделался, какой я ни есть, но сам, а Лермонтов остался тоже сам.
Но благодаря этим первым эксцессам я теперь все же ясно вижу два рода возможностей поведения человека: одно поведение ведет к самому себе и раскрытию своего таланта и через это – к раскрытию широкого понимания природы и людей; другое поведение ведет к отщепенству и демонизму, и не к творчеству, а к позе творчества.
Мне бы хотелось в дальнейшем разобраться, что же именно определило мой путь и образовало мое поведение?
Это я задумал поискать для того, что, может быть, мне удастся найти что-нибудь полезное для вступающих на тот путь, по которому я шел.
Снег валил видимо-невидимо, но у нас на земле было +1, и снег, даже такой густой и тяжелый, прикоснувшись, мгновенно превращался в воду. Я думал о том, что, в сущности, каждый из нас тоже снежинка, но мы в этот короткий миг жизни ведем себя (держим себя) как бессмертные. Обессмерчивание мгновения – вот наша жизнь, на этом и все искусство построено: не остановись мгновение, как в «Фаусте», а продлись навсегда!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: