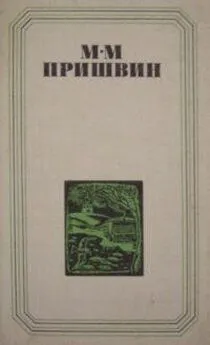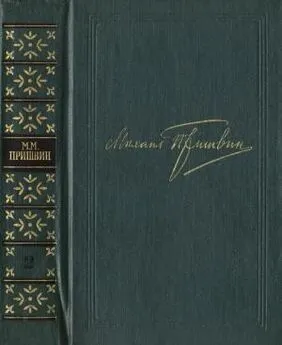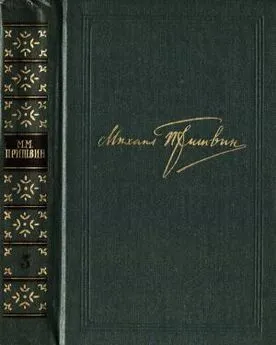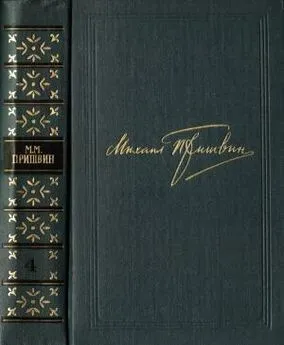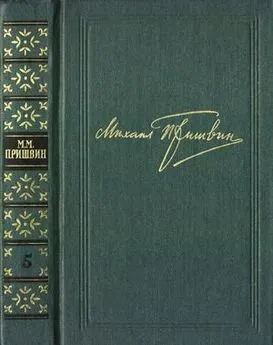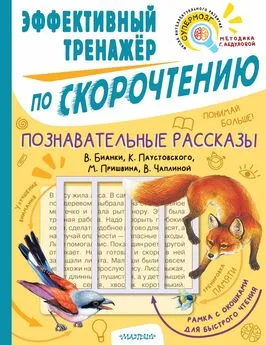Михаил Пришвин - Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли
- Название:Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли краткое содержание
В седьмой том Собрания сочинений M. M. Пришвина вошли произведения, созданные писателем по материалам его дневников – «Натаска Ромки» (Из дневника охоты 1926–1927) и «Глаза земли».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Натаска Ромки. Глаза земли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так бывает в природе. Но культура без природы быстро выдыхается. В этом смысле природа науку одолевает.
Рожь подымается, ударил перепел. Боже мой! Это ведь тот самый, какой мне в детстве в Хрущеве кричал: у них же нет нашего «я» или «ты», – у них перепел весь един.
Семьдесят лет все «пить-полоть!».
Как Бунин любил крик перепела! Он восхищался всегда моим рассказом о перепелах. Ремизов, бывало, по телефону всегда начинал со мной разговор перепелиным сигналом: «пить-полоть».
Шаляпин так искренно, по-детски, улыбался, когда я рассказывал о перепелах, и Максим Горький… Сколько нас прошло, а он и сейчас все живет и бьет во ржи: «пить-полоть».
Мы поодиночке прошли, а он не один, он един – весь перепел, в себе самом и для всех нас проходящих.
И думаешь, слушая: вот бы и нам тоже так; нет нас проходящих – Горький, Шаляпин, Бунин, тот, другой, третий, а все это – один бессмертный человек с разными песнями.
Нас, стариков, разделяет от молодых завеса прошлого, которая так висит, как бывает кисейная занавеска в комнате.
От нас изнутри к ним наружу видно, а от них к нам в комнату ничего видеть нельзя.
Тагор – это дитя индусской древней культуры, Шаляпин – дитя русской природы.
Шаляпин – как водопад, Тагор – как вечерний луч, позабытый солнцем на вершине высокого дерева.
Большой хозяин, если увидит непорядок и в чужом хозяйстве, вступается: у него духу хватает и на чужое, а хозяин мелкий думает только о себе: на чужое у него духу не хватает.
Искусство наше словесное, живопись, зодчество, скульптура и все другие являются в мелкой жизни маяками, светом большого единого духа.
Между людьми жить, как между волнами плыть. Только волнам лодку надо ставить вразрез, а с людьми, чтобы и им и тебе ветер взад дул.
Композитор слышит какие-то звуки, расстанавливает их в порядке на бумаге, обозначая крючками, и с трепетом передает исполнителю. И вот эту музыку мы слышим с волнением, узнавая в своей собственной душе друга своего, композитора. Так и книги пишутся, и картины, и дворцы строятся, и возникают богоподобные фигуры.
Все такое начинается тем, что одинокая душа ищет своего друга в целом, переполняется желанием, как грудь матери молоком, и на желание приходит… [3]
Пробовал войти в работу, раскрывая себе свою вечную спутницу-мысль: «Надо и хочется».
Начинается все на свете с того, что самому хочется. На горе навис снег, и ему, конечно, хочется упасть. Одуванчик ждет ветра, и ему хочется разлететься в зонтики. Мальчику хочется… Так все на свете начинается с того, что хочется.
Но только свалился снег с вершины горы, и прощай «хочется»: снег собрался в огромную массу, и лавина летит, как ей надо лететь. И одуванчик по ветру летит, куда ему надо лететь, и мальчику захотелось уйти – пошел, и теперь больше нет ему своей воли: ему надо уйти.
Если человек поднимается – ему это хочется. Но ему надо поднять с собой и то, что называется природой (землей): ему надо быть внимательным для этого и милостивым.
Таково самое широкое понимание отношения «хочется» и «надо».
Скребет что-то возле души. И от этого душа скорбит. Или это душа скорбит и оттого по телу скребет? По-моему, и так бывало, и так.
Случалось не раз, вдруг нечаянная радость придет – какое-нибудь письмо с предложением издать книгу. И как только скорбь с души сошла, по телу перестало скрести.
Это калеки, наверно, говорили в древности, что в здоровом теле здоровая душа, но у меня лично чаще бывает наоборот: в здоровой душе – здоровое тело. Бывает, напишу что-нибудь – и прямо прыгать хочется.
Но и то древнее тоже верно. И, пожалуй, если вспомнить знакомых людей, то можно их распределить по шкале: на одном конце душа, на другом тело. Одни люди раскачиваются от души к телу, другие от тела к душе.
Есть такие травки-метелочки, их как только увидишь, так сама рука, приученная к этому с детства, сдергивает метелочку с загадом: курочка выйдет или петушок?
Совсем маленький мальчик удивляется, а тот, кто постарше, кто учит и лукавит уже, тот знает секрет: если, сдергивая метелочку, прищипнуть кончик – выйдет хвостик – значит, петушок, а если сдернуть до конца – курочка.
Самое трудное в борьбе за первенство – борьба со своей индивидуальностью: ее надо побороть так, чтобы люди на нее не обращали никакого внимания и видели одно только дело.
Так и наши большие революционеры, как бы даже стыдясь своей индивидуальности, показывались только в делах.
Утром в лесу видел: молодая белка спирально спускалась по дереву, а на другом дереве еще две, и там дальше вверху, и на самой высоте тоже листва шевелилась. Я замер на месте – и одна маленькая, задрав хвостик, как большая, чувствуя мою близость, замерла.
«Вот, – подумал я, – пришел бы охотник и грохнул. Ведь это ужас!» Но только я-то ведь сам охотник и могу себе ясно представить, что охотнику можно и нужно греметь и стрелять и что это ничуть не мешает ему тоже в неохотничье время располагаться для мирного поэтического наблюдения зверьков.
Так вот и у нас в литературной среде: громыхают они – и пусть! Незаметно, потихоньку надо от них отойти, авось придет время – и им тоже захочется пописать, и тогда они тоже бросят громыхать и стрелять.
Человек – это мастер культурной формы вещей. На низшей ступени лестницы этих мастеров стоят те, кто ничего не вносит своего, а возвращает талант свой в том виде, в каком он его получил. На высших ступенях располагаются те, кто всю душу свою вкладывают в творчество небывалого.
Мы не можем сказать, как в слитой воде ее молекулы – все ли одинаковы или, может быть, тоже отличаются между собой.
Мы берем такие сложные формы, как дождевые капли, и видим, что они, образуя силы воды, просто сливаются, а люди, как мы замечаем, под давлением жизненных обстоятельств не сливаются, а, напротив, каждый, имея со всеми общую цель, начинает борьбу за свое первенство.
Мы считаем безоговорочно человека «царем» природы, может быть, только потому, что человек нам ближе и доступнее для наблюдения, что человека мы можем понимать по себе, а природа «в себе» нам недоступна. И, приспособляя богатство природы в пользу себе, еще не известно, господствуем ли мы над природой или, напротив, природа заставляет нас подчиняться своим законам.
В лесу навстречу моему глазу на невидимой паутине висели уголком две хвоинки. Паутина спускалась от самого верха высокой сосны, и хвоинки служили подвеском. Я потянул хвоинку вниз на вершок, отпустил – и хвоинка прыгнула вверх.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: