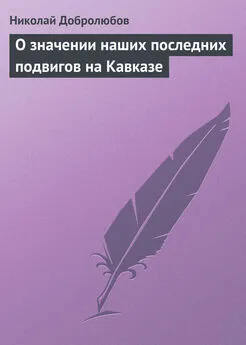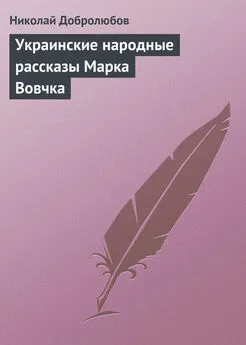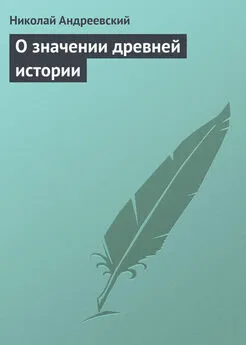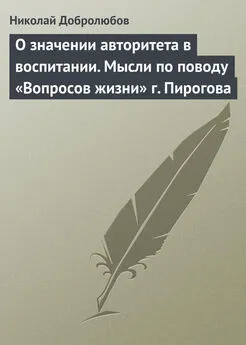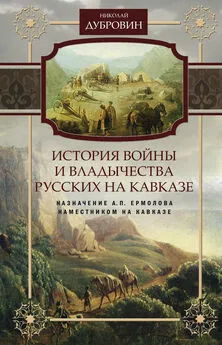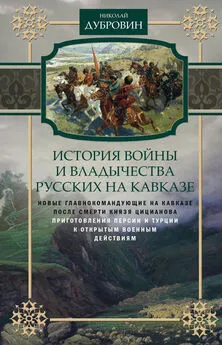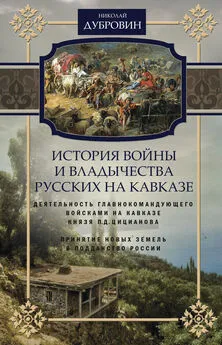Николай Добролюбов - О значении наших последних подвигов на Кавказе
- Название:О значении наших последних подвигов на Кавказе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Добролюбов - О значении наших последних подвигов на Кавказе краткое содержание
Под «последними подвигами на Кавказе» Добролюбов имеет в виду взятие 25 ноября 1859 года русскими войсками аула Гуниб и пленение предводителя горцев Шамиля. Эти события не завершили так называемые «кавказские войны», начавшиеся еще в конце XVI века и окончившиеся в 1864 году, но предрешили их исход, что правильно понял Добролюбов. Вопреки всему тому, что писалось в то время как в реакционной, так и в либеральной прессе, Добролюбов утверждал, что «любуясь на Шамиля», разъезжавшего под конвоем по русским городам и сменившего аул Гуниб на город Калугу, не следует обольщаться и придавать серьезное значение «словам, беспрерывно раздающимся в обществе: “война на Кавказе кончена”»
О значении наших последних подвигов на Кавказе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
35 орудий, 2150 ружей, до 14 000 зарядов, из которых до 6000 досталось неприятелю, 350 000 патронов, 50 пудов пороху, 180 палаток, 360 вьючных лошадей, большое количество провианта и пр. Наконец, Шамилем разрушено до основания двенадцать укрепленных пунктов.
На Кавказе 1843 год оставил страшное впечатление: доверенность к русским исчезла, Шамиля считали непобедимым. После десятков разных покорений, возмущений, усмирений, и опять восстаний, и опять покорений, и снова возмущений, – военные люди, знающие Кавказ, пришли к заключению, что лучше подвигаться вперед медленно, но прочно, и для этого постепенно стеснять горное население линиями укреплений, лишить их возможности существовать в бесплодных горах и тем заставить их покориться. Но для того, чтобы это мнение принято было для практических действий, нужно было русским войскам перенести еще один горький опыт – поход в Дарго.
В 1844 году двинут был на Кавказ 5-й пехотный корпус, и с помощию его приказано было командиру Отдельного кавказского корпуса проникнуть в горы, рассеять скопища Шамиля и утвердиться в горах. Это было предписано в том предположении, что Шамиль не успеет еще прочно укрепить своего владычества в Аварии.
Бывший в то время корпусным командиром Отдельного кавказского корпуса генерал-адъютант Нейдгарт был человек характера нерешительного; кроме того, он считал предложенную ему задачу невыполнимою, а потому успех военных действий на Кавказе в 1844 году не соответствовал тем силам, которые находились там в то время. Вследствие того в декабре 1844 года назначен был вместо генерала Нейдгарта наместником Кавказа граф Воронцов, с правами, которых до него не имел ни один из наместников Кавказа. Граф Воронцов совершенно незнаком был тогда ни с краем, ни с образом кавказской войны и сперва смело взялся исполнить программу предстоявших ему действий, то есть:
1) разбить скопища Шамиля,
2) проникнуть в центр его владений и
3) утвердиться в нем.
И вот граф Воронцов, прибыв в Тифлис, предписал командиру 5-го пехотного корпуса, генералу Лидерсу, сосредоточить чеченский отряд у крепости Внезапной к 28 мая и в то же время приказал князю Бебутову с дагестанским отрядом двинуться к укреплению Евгениевскому.
Однако же после свидания с генералом Фрейтагом, бывшим против решительных движений в горы, граф Воронцов потерял ту самоуверенность, с какою прежде смотрел на свой поход в Андию.
Вот что писал он от 30 мая 1845 года к бывшему военному министру Чернышеву:
Повергните меня к стопам его величества; я не смею надеяться на большой успех нашего предприятия, но сделаю, разумеется, все, что будет от меня зависеть, чтобы выполнить его желания и оправдать его доверенность. [6]
Припомним несколько фактов из Даргинской экспедиции, чтобы видеть, каких усилий стоило нам прежде движение на Кавказе и какого рода ошибки постоянно затрудняли для нас покорение страны, уже столько раз бывшей в наших руках.
Начиная поход, граф Воронцов полагал встретить упорное сопротивление со стороны Шамиля на первых шагах своего похода, при этом разбить его и затем уже двигаться гораздо спокойнее вперед. Но Шамиль счел за лучшее вести партизанскую войну: он пропускал Воронцова вперед, тревожил его отряд беспрерывной перестрелкою из леса и, казалось, решился завлечь отряд к себе в горы и там окончательно истребить его, в чем он почти успел. 5 июня отряд встретил на своем пути высокую, крутую и занятую сильным неприятельским отрядом гору Анчимир. По-видимому, эта позиция была неприступна, в чем был уверен сам корпусный командир; однако же он отдал приказание генералу Пассеку занять эту гору и сбить неприятеля с его позиции, и через два часа гора была в наших руках.
Граф Воронцов сам, казалось, так мало надеялся на успех, что даже не дал никаких дальнейших приказаний генералу Пассеку, и его отряд, занятый преследованием неприятеля и очисткою дальнейшей дороги в Андию, отделился от главного отряда на пятнадцать верст и с 5 по 11 июня оставался по колено в снегу без топлива и продовольствия, – словом, без всяких средств, на высотах Зуну-Меер.
В то же самое время, как люди Пассека мерзли на вершине горы, – люди главного отряда умирали от жара и жажды в долине; дальнейшее затем следование нашего отряда в Андию не представляет никаких дел, потому что Шамиль, потерявши проход, сам очищал дорогу, выжигая при этом окрестные аулы и ведя свою обыкновенную партизанскую войну. Мало-помалу мы подвигались все вперед; между тем запасы были израсходованы, пройденный нами путь снова занят неприятелем, и войска наши остались без продовольствия.
Наконец, 6 июля отряд, находившийся в довольно изнуренном состоянии, был двинут вперед для занятия Дарго, бывшего в то время местопребыванием Шамиля. Пока авангард наш брал завал за завалом, Шамиль очистил Дарго, зажег его и оставил. Войска авангарда заняли Дарго, и наконец мало-помалу весь отряд вступил в него. Таким образом, несмотря на крайние затруднения и потери, прямая цель экспедиции была достигнута: Дарго, столица Шамиля (так тогда полагали), был занят, и неприятель был выбит из самых крепких позиций. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы привести к покорности горские племена: несмотря на то, что русское знамя развевалось в Дарго, лезгины и чеченцы не спешили изъявить подданнических чувств. Они, напротив, чувствовали, что русские не могут удержаться в занятых ими позициях, потому что не обеспечили себе сообщения с другими пунктами ближайших русских владений и не могли получать даже продовольствия и боевых припасов. Нам нет надобности распространяться здесь о важности обеспечения для войска безопасных сообщений: каждый, кто читал хоть самое коротенькое и поверхностное описание какой-нибудь войны, понимает, конечно, всю важность этого элементарного соображения. Понимали его и горцы. Оттого-то они совершенно спокойно смотрели на вступление русских в Дарго, будучи уверены, что войска наши скоро должны будут выступить из занятой позиции и погибнуть на возвратном пути. Действительно, идти было невозможно, потому что отряд не имел продовольствия, да и получить его было неоткуда, так как войска наши были кругом обложены неприятелем. Да и возвращение было не совсем удобно: надо было проходить через Ичкерийский лес, в котором нас ожидала если не совершенная гибель, то по крайней мере ужасный урон. Однако 10 июля на горах, находящихся пред Даргинским лесом, показался транспорт с хлебом. Но пробраться ему в Дарго было невозможно, потому что дорога через Даргинский лес была занята уже неприятелем и сильно укреплена, а мы с трудом могли пройти ее всем отрядом. Однако ж главнокомандующий послал навстречу транспорту половину своего отряда для принятия и доставления припасов в лагерь; авангард этого отряда был поручен генералу Пассеку, арьергард – Викторову, а всем отрядом начальствовал генерал-лейтенант Клюки фон Клюгенау. Отряд достиг до транспорта, хотя с огромною потерею: почти весь арьергард, а с ним вместе и начальник его Викторов погибли в лесу Даргинском. На возвратном пути к Дарго отряд потерял Пассека, почти весь авангард и все припасы, которые были взяты из транспорта. Таким образом, вместо ожидаемых припасов, граф Воронцов получил только семьсот человек раненых, которых вынесли из леса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: