Борис Зайцев - Том 1. Тихие зори
- Название:Том 1. Тихие зори
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00402-6, 5-268-00403-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Том 1. Тихие зори краткое содержание
Эта книга открывает самое полное собрание сочинений выдающегося мастера лирической прозы, классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972). После десятилетий забвения и запретов наше многотомное издание впервые в таком значительном объеме представит российским читателям все многообразие творческого наследия «крамольного» писателя, познакомит с десятками его произведений, никогда в России не издававшихся или изданных лишь в последние годы. Это романы Зайцева, лучшие из его повестей и рассказов, романизированные жизнеописания, три книги паломнических странствий, избранная духовная проза, мемуары, дневники, письма.
В первый том вошли ранние рассказы и повести писателя из четырех его книг, роман «Дальний край». В приложениях публикуются первые рецензии о «новой» прозе Зайцева В. Брюсова и З. Гиппиус.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 1. Тихие зори - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Отлично, – говорила она, – будет детка, мы станем водить ее на круг, играть с ребятами. Милый, – сказала она и обняла Петю. – Не думайте обо мне, не беспокойтесь: я страшно, страшно счастлива. Я уже страшно люблю эту детку, вашу детку.
На глазах ее стояли слезы. Петя же гладил ее руку и думал, что, быть может, эта детка, которой они отдадут столько сил и забот, будет также оплотом против темных сил жизни.
В таком настроении встречали они приближавшуюся Пасху.
На Страстной неделе Лизавета говела, постилась, красила яйца и готовила куличи, будто была не полоумной Лизаветой, прыгавшей некогда на дрова, обезоружившей офицера во время восстания, а тихой женщиной старорусского образца. Петя находился в размягченном и душевно-легком состоянии.
Под Светлое Христово Воскресение они собрались к заутрени, в Страстной монастырь.
Был тихий вечер, немного туманный. На улицах мало народу, и город имеет тот примолкший, несколько сосредоточенный и торжественный вид, который так соответствует величайшему из праздников. Целый год люди трудились, страдали, грешили, но вот настает час, когда нужно забыть все, и сосредоточиться на самом святом, что было в истории.
У входа в монастырь, в часовне они купили свечи и тронулись дальше. Церковь находилась во дворе. Двор был усажен деревьями, чуть трепетавшими листвой. Подходил народ. Петя с Лизаветой не вошли в церковь, они стали налево, в проходе между деревьями. Было так тихо, что свечи, зажженные и у них, и у соседей, даже не колыхались.
– Это всегда так на Пасху, – сказала Лизавета, – никогда в эту ночь не бывает ветрено.
Петя хотел было улыбнуться на тот убежденный тон, каким Лизавета это высказала, но не улыбнулся почему-то. Старушка, стоявшая рядом, подтвердила: пасхальная ночь всегда тиха.
На Иване Великом ударили в колокол. Звуки поплыли широко, глухо, наполняя гудением воздух. Тотчас, как далекая волна, отозвались они на всех бесчисленных колокольнях Москвы. Петя с Лизаветой стояли робко, слегка взволнованные хорошим волнением. При пении «Христос Воскресе» из дверей церкви стали спускаться по широкой лестнице монашки с высоко зажженными свечами. Среди них шло духовенство. Высокие голоса монашек, их черные клобуки, золото свечей, хоругви, плавно колыхавшиеся в воздухе, – все сливалось в одну картину, торжественную и захватывающую; казалось, силы света, великие силы христианства праздновали свою победу. «Христос Воскресе», – говорили кругом, и целовались. Шествие спустилось вниз, и под ту же непрестанную песнь, под неумолчный гром колоколов обошло вокруг церкви. Еще лучше было, когда монашки подымались по лестнице: свечи походили тогда на золотые копья.
Наверху их не сразу пустили: двери церкви были заперты, и, когда растворились – что символизировало Воскресение, – радостный хор с новой силой устремился туда.
«Христос Воскресе», – сказал Петя Лизавете. «Воистину Воскресе», – ответила она, и, когда Петя трижды поцеловал ее в побледневшие губы, на глазах ее стояли слезы. Он сам чувствовал, что глаза его влажны. Почему это было? Он не знал. Но он вспомнил тот момент, когда они перед аналоем трижды поцеловались, «свидетельствуя перед церковью о своей любви». Тогда они были еще беззаботно молоды и счастливы счастьем детей. Теперь знали уже отчасти жизнь, ее горе, соблазны, – и теперешний поцелуй, со словами о Воскресшем Христе, показался Пете еще возвышенней, значительнее тогдашнего. Освящал ли, благословлял ли Христос их союз, этого нельзя было сказать. Но как и во всей службе, в этом поцелуе была надежда, укрепление к будущему.
Возвращаясь домой, они охраняли свечи ладонями, чтобы донести непогасшими. Дома никого не было – они не хотели бы сейчас никого видеть; вдвоем съели кулича, пасхи и, не говоря сами за что именно, подняли по бокалу вина за прекрасное и настоящее, к чему стремились. Эта заутреня и разговены остались для них навсегда памятником чего-то порубежного, той черты, с которой как будто начинается новая жизнь.
Через три дня, когда праздники были уже на исходе, они получили из деревни телеграмму: дедушка скоропостижно скончался.
Ночь в Италии, у Сестри, на развалинах монастыря, была решающей в жизни Степана.
С нее началось его духовное возрождение. Прежде всего он почувствовал давно неиспытанный прилив силы и бодрости. Он с прежней ясностью сознавал всю тягость ответственности и заблуждений, лежавших на нем, но ему уже не казалось, что он отверженный. Зависело это от того, что теперь в его сердце сияла любовь к Евангелию, Христу. Эта любовь, принимая в себя – как море большую реку – его прежнее народолюбие и сочувствие угнетенным, освещала их необыкновенным светом. Она давала объект поклонения – жизнь Христа, она давала путь к искуплению совершенного, путь к подвигу.
Степан не перестал думать, что главная задача его деятельности есть помощь народу на пути освобождения, приближения к царству света и правды, – но теперь это освящалось именем Христа. Потому надо так делать, полагал он, что милосердие и братолюбие завещал Христос, и делать надо теми же средствами, какими делал Он: любовью и проповедью. Не рассуждая о том, насколько это приложимо к другим, Степан твердо знал, что сам он уже неспособен на насилие. Он мог сопротивляться лишь пассивно. Это новое, чистое сознание, вместе со смутной надеждой на то, что любовь снимет бремя с его совести, давало ему светлое настроение.
С ним он уехал в Россию. Он не знал еще в подробностях, как будет проводить свои новые взгляды, хотя он и не отказывался от социализма, напротив, по-прежнему, твердо был уверен в его правде – однако, ему трудно, пожалуй, даже невозможно было бы одобрить теперь все способы действий, применявшиеся социализмом русским. В частности, он был, конечно, против террора.
Жизнь не дала ему столкнуться в решении этих вопросов с товарищами: в России его тотчас арестовали, и теперь уже как террориста. Через полтора месяца он приближался к месту своей новой жизни, каторге на реке Амуре.
Тут в первый раз пришлось ему говорить о волновавшей его теме и в первый раз, после порядочного промежутка, испытать физические страдания и издевательства.
Товарищи отнеслись к нему разно: большинство с ним не соглашалось, говоря, что хотя идеалы евангельской кротости и возвышенны, но к жизни неприменимы. Ему приводили примеры, откуда следовало, что в некоторых случаях физическое насилие необходимо. Это не колебало общего его духовного устремления. Он возражал, что социализм настолько ему ценен, насколько несет в себе начала гуманности, добра и милосердия. От террора же отдельных лиц – лишь шаг до казней, по приговорам трибуналов: что совсем принижает их идею.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







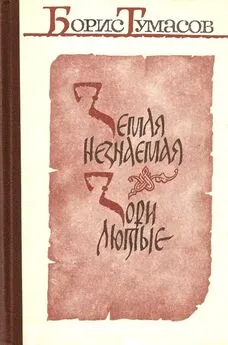

![Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]](/books/1077155/boris-zajcev-dalekoe-sbornik-litres.webp)
