Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба
- Название:Том 4. Путешествие Глеба
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00402-6, 5-268-00430-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба краткое содержание
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Путешествие Глеба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глеб ощущал легкое, пронзающее волнение – беспокойство. Нет, это уже не будни, не класс, не ничтожные отметки. А что именно? Он не сумел бы ответить. Но не мог оставаться равнодушным.
О. Парфений договорил свое. Звонок, молитва, не взглянув на Глеба, медленно-согбенно он ушел. Вместо него приходили другие. Козел мямлил свое «вот это как… просвещенный абсолютизм. Ну, абсолютизм, ну, просвещенный…» Длительный, сомнамбулический монолог все Глеба сопровождал.
Он возвращался домой в задумчивости. Трудно понять, трудно понять… Ну, а все-таки? Может быть, так оно и есть, как он говорит? Спасение, гибель… Что же, новые доказательства? Чем-нибудь доказал это о. Парфений? Не доказал, и как доказывать, но… В этом «но» все и дело.
Когда Глеб вошел в прихожую, в зале пели, но не голос Олимпиады, мужской, тенор.
Гаснут дальней Альпухарры
Золотистые-е кра-я!
На призывный зво-он гитар-ры
Выйди, милая-я моя!
Снимая шинель, Глеб в открытую дверь увидал за роялем Олимпиаду – слегка раскрасневшись, она аккомпанировала. Полный блондин, в тужурке путейского инженера, вытягивался на цыпочках, брал верхние ноты. Явно, что какой-то испанец превозносил свою возлюбленную. А кто не согласится, того дело плохо: вызывал на поединок.
Всех, любови-ю-у сгорая,
Всех, всех, всех зову на смерт-т-ный б-б-бой!
Инженер окончательно устремился ввысь, телом и голосом. Глеб усмехнулся, коридором прошел к себе. Все это он уже знал. Александр Иваныч, заезжий инженер, певец-любитель, нередко бывал у них теперь. Тенор его не волновал Глеба. Он сейчас занят был другим. Снял ранец, умылся, сел к своему письменному столу. Пускай они там поют. Он закрыл глаза. «Есть или нет?» В темноте плыли какие-то круги, рождались и уходили многоцветные пятна. Глеб не услышал голоса «да». Но когда глаза вновь открыл, вдруг ощутил, что прежней уверенности в «нет» тоже нет. Все показалось несколько иным, слегка смещенным с прежних, печально-непоколебимых мест. Он вздохнул. Взор упал на кусок натянутой на доску ватманской бумаги с начатою акварелью. «Да, все-таки надо зайти к этой учительнице. Может быть, Олимпиада и права».
Театр в Калуге на окраине, площадь, где он стоит, пустынна – немощенная, кое-где травка, корова пасется, жеребенок может промчаться с детским своим ржанием.
Мещанские одноэтажные домики вокруг, деревянные заборы, калитки. Место высокое. Открывается вид на Ячейку, впадающую в Оку, на знаменитый бор. Левее излучина самой Оки.
Солнце низко над бором. Октябрьский ветер тянет могуче, облака идут прямо на Глеба, иногда их прорезывают солнечные снопы, бледные, горькие. Ветер, запах осени, огненные последние рябинки…
Глеб подошел к калитке, отворил. Пес забрехал, заметался в конуре. Из затхлой кухонки вылезла затхлая старуха.
– Тут уроки дает барыня?
Оказалось, что тут. Глеб поднялся по лесенке. На галерейке постучал в клеенчатую дверь. «Полина Ксаверьевна Розен» – да, она. Дверь изнутри отперли, полуотворили.
– Насчет урока, – сказал Глеб несмело.
– Входите.
Пестрая помятая тахта, мольберт (на нем неоконченный этюд – цветы), стаканчики с мутно-цветною жидкостью. Кисти, по подоконнику тюбики красок, окурки, измазанная палитра.
– Извините, руки не могу подать… вся в краске. Однако, этими пальцами ухитрялась Полина Ксаверьевна держать папиросу – правда, отпечатывая на ней узоры.
– Вот, садитесь, этот стул покрепче.
Глеб снял ученическую фуражку, не без робости сел. Полина Ксаверьевна, дама немолодая, худая, с большими глазами, довольно беспокойными, с прической никак не от парикмахера, стояла перед ним, рассматривала его.
– Урок? Учить? Вас? Что же вы хотите делать?
Глеб, как умел объяснил. Она слушала, обтерла пальцы о весьма сомнительное полотенце, закурила новую папиросу.
– Акварелью занимаетесь? Именно акварелью? Просто для себя?
В ней было что-то нервное и непокойное.
Лицо ее не весьма Глебу понравилось – растрепанные волосы, желтоватые крупные зубы, бледные глаза… – но вся она вызывала скорее сочувствие: «странная». Глеб таких не видал в Калуге.
Вымыв руки в умывальнике с мраморною доской и педалью, она стала греть на спиртовке воду для чаю. К Глебу присматривалась, расспросила, кто он и что. Красинцеву знала и фамилию Красавца слышала.
– Ну, ладно. По средам и субботам. Принесите свои работы, посмотреть, в чем дело. Да, конечно, в этой Калуге и показать некому. Дыра! Хотите чаю? Печений и конфет нет, но как артисты мы можем довольствоваться и кусочком сахару. Роскошь не для нас.
Глеб поблагодарил, от чаю отказался.
– Я здесь третий месяц. Мы жили… т. е. вернее, я, – она почти рассердилась, – я жила перед этим в Самаре, там преподавала живопись… сама-то я петербургская. Но Самара тоже мерзкий город – не такой, впрочем, как ваш. Во всяком случае мерзкий. Здесь я поселилась в лачуге преимущественно потому, что место красивое. Вон, взгляните, солнце заходит… – какая прелесть!
Она подвела Глеба к окну. На закате небо расчистилось, осеннее солнце, садясь и краснея, коснулось бора за Ячейкой – крепких зеленых его шлемов. Домики, заборы, полуголые деревья в садах прощально зарделись.
Глеб стоял рядом с Полиной Ксаверьевной. От нее пахло скипидаром, глаза ее нервно блестели.
– Если в вас есть художник, вам должно нравиться это солнце, вид…
Она обернулась. Солнце выхватило огнем кусок красной материи над тахтой – она пылала.
– Какая роскошь! Мы будем писать натюрморты, я научу вас добиваться этого огня в красках. Видите мой этюд? Масло, но и в акварели мы зажжем пожар…
Да, это не планчики Михаила Михайлыча.
– Я был в Москве, в Третьяковской галерее, – сказал Глеб, – мне очень понравились картины Левитана.
Полина Ксаверьевна одобрила. Она стала рассказывать, что знала в Петербурге много художников и муж ее кончил Академию, он портретист… и в Петербурге они отлично жили, но потом пришлось перебраться в Самару.
– Ну да, вообще… – она вдруг поперхнулась и опять достала этюд, – это, видите, упражнения уже в рисунке.
Солнце зашло, огонь над тахтой погас. Бор замер, мир похолодел. В комнате сразу стало сумеречно. Глеб взялся за фуражку.
Полина Ксаверьевна пристально на него смотрела – папироса во рту, сама у двери прямая, худая. Бросила окурок, протянула руку.
– Значит, первый урок в среду?
– В среду.
– Но пораньше приходите, пока светло.
Глеб спустился по лесенке, молча и неторопливо пошел через площадь.
Становилось темнее. У подъезда театра зажгли керосиновые фонари.
Что-то заброшенное, пустынное показалось ему и в площади этой, и в громаде театра. А жилье Полины Ксаверьевны? Мансардная комнатка, сейчас будет лампочка, чай, папиросы, ужин на спиртовке. «Как все печально…» Глеб был и возбужден – несомненно, он может теперь прикоснуться к другому, высшему миру живописи, чему-нибудь научиться. Но Полина Ксаверьевна эта… – табак, запах скипидара, убожество всего вокруг!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







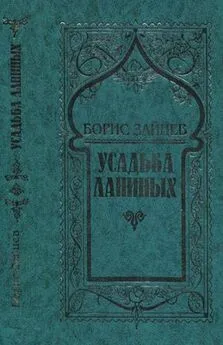
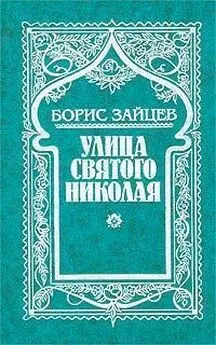
![Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]](/books/1077155/boris-zajcev-dalekoe-sbornik-litres.webp)