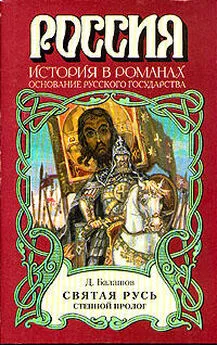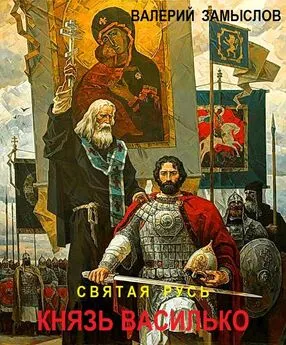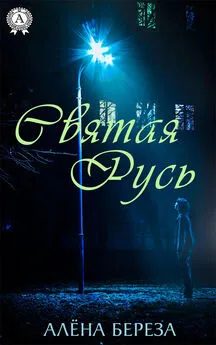Борис Зайцев - Том 7. Святая Русь
- Название:Том 7. Святая Русь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00402-6, 5-268-00478-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Том 7. Святая Русь краткое содержание
В седьмой том собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) вошли житийное повествование «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), лирические книги его паломнических странствий «Афон» (1928) и «Валаам» (1936), религиозные повести и рассказы, а также очерки из «Дневника писателя», посвященные истории, развитию и традициям русской святости. Монахи, оптинские старцы, странники и блаженные, выдающиеся деятели церкви и просто русские православные люди, волею судьбы оторванные от России, но не утратившие духовных связей с нею, – герои этой книги. И в центре – образ любимейшего святого русского народа – преподобного Сергия Радонежского, явившего, но словам Зайцева, в себе сочетание «в одном рассеянных черт русских», пример «ясности, света прозрачного и ровного».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Святая Русь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Зайцев подолгу всматривается в Кронштадт, едет на недалекую границу с Россией и испытывает там странное ощущение: вроде бы родная страна лежит по ту сторону колючей проволоки, но в красноармейцах-пограничниках чувствуются «враги». Идет 1935 год, и в Европе достаточно осведомлены о происходящем в СССР. В марте 1935 года стариков «из буржуев и интеллигенции» выслали из Ленинграда в пятидневный срок – об этом факте Зайцев упоминает в очерке «Финляндия. 1. К родным краям» [26] Зайцев Б. К. Финляндия. 1. К родным краям // Возрождение. 1935. 20 окт. № 3791. С. 3.
, открывающем цикл газетных публикаций, составивших затем книгу «Валаам» (этот первый очерк не вошел в книгу). Размышлениями о загадке и трагедии русской жизни героя, смотрящего с финского берега на Россию, Зайцев завершит впоследствии свою автобиографическую тетралогию «Путешествие Глеба»: «Кронштадт, Андреевский Собор. <���…> Отсюда отплывал фрегат „Паллада“, тут проповедовал Иоанн Кронштадтский, тут же убивали офицеров, еще позже убивали красных матросов – в их же восстании. А все вместе называется Россия».
Болью, горечью проникнута и запись В. А. Зайцевой: «Против нас Кронштадт. Были два раза у границы. Солдат нам закричал: „Весело вам?“ Мы ответили: „Очень!“ Он нам нос показал, а я перекрестилась несколько раз. Очень все странно и тяжко, что так близко Россия, а попасть нельзя. Но люди здесь (русские в Финляндии. – А. Л.) очень, очень свои. Вообще Россию чувствуешь, прежнюю» [27] Зайцев Б. К. Другая Вера. С. 431.
. Глубокий трагический символ видится в этой сцене. Две части расколотой России, в одной из которых ерничают с винтовкой за плечами, а в другой – крестятся, все-таки тянутся друг к другу, говорят на одном языке, но не могут соединиться: «так близко, а попасть нельзя». Видимая полоска приграничной земли обозначила невидимую, но непреодолимую пропасть. Для православного эмигранта невозможен возврат в Россию, ставшую врагом религии. Но и в ерничании красноармейца, в его возгласе «весело вам?» проступает какая-то горечь. Ведь он, в отличие от изгнанников, не может даже открыто перекреститься без риска для жизни. А впереди его ждут годы – 1937, 1939, 1941-й… (Интересно, что летом 1936 года во время поездки по Прибалтике И. С. Шмелев оказался в аналогичной ситуации: он подошел вплотную к советско-эстонской границе, протянув руку за колючую проволоку, взял горсть родной земли. Советский пограничник, видимо нарушая инструкции, приветливо помахал ему платком [28] См.: Шмелев И. С. Рубеж // Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. Въезд в Париж. С. 420–422.
).
С виллы Кауше в августе 1935 года Зайцевы, получив рекомендательное письмо от митрополита Евлогия к валаамскому игумену Харитону, совершают поездку на Валаам, где проводят девять дней. «Все как в сказке… – пишет В. А. Зайцева В. Н. Буниной. – Б<���орис> доволен, тихо улыбается. Познакомились с дивными старцами схимонахами» [29] Зайцев Б. К. Другая Вера. С. 431–432.
.
Книга «Валаам» (1936), написанная по впечатлениям от этой поездки, представляет собой глубоко лирическое, исполненное поэзии описание валаамского архипелага. Как и в «Афоне», Зайцева привлекает «внутренняя, духовная и поэтическая сторона Валаама». Автор не говорит о ней прямо – она открывается как отклик в душе читателя на те настроения, пейзажи, портреты, которые рисует художник. Метод писателя – не «разъяснять» отдельные моменты монашеского жития, а дать читателю возможность почувствовать этот мир, пережить вместе с автором минуты тихого созерцания. Еще более сокровенной, по сравнению даже с «Афоном», остается внутренняя, молитвенная жизнь самого Зайцева, он практически ничего не сообщает о ней. Поэтому в одном ряду оказываются несоизмеримые в духовном плане вещи: «Мы поищем грибов, поклонимся могиле Антипы, полюбуемся солнцем, лесом, перекрестимся на пороге часовни». Зайцев пишет легко, весело, порой даже озорно. Он явно играет с потенциальным «секулярным» читателем, когда, например, называет «маленьким заговором» не что иное, как договоренность со старцем-духовником об исповеди и причастии… О сокровенных переживаниях Зайцевых можно судить из их личных писем. Например, В. А. Зайцева пишет своей близкой подруге В. Н. Буниной об исповеди у схимника: «Обедню служил о. Федор, который нас исповедывал. <���…> Вера! Ты себе представить не можешь, что это за Человек! <���…> Мне кажется, он сразу познал нас. Сколько любви, сколько облегчения дала мне эта ночь. <���…> Я тебе пишу и плачу от умиления» [30] Зайцев Б. К. Другая Вера. С. 433–434.
.
Зайцевым воссоздан, как не раз отмечалось в критике, «рай». Валаам запоминается обликом чистой, возвышенной благообразной жизни, оставляя в памяти образы приветливых старичков-монахов. Зайцев точно так же, как в «Афоне», отразил одну грань Валаамского монастыря – «ощущение прочности и благословенное™», светоносность и тишину этого мира. Но он не касается иных граней – скорбей, неизбежных на иноческом пути, духовных подвигов виденных им «простеньких» старцев – это и не входит в его задачу. Он весь захвачен духом словно вновь воскресшей Родины: «Ведь это все мое, в моей крови, я вырос в таких лесах…», ему вновь открывается памятная с детства «приветливая и смиренная Святая Русь».
Поэтому понятно, что пришедшая с началом финской войны весть о трагедии далекого, но родного Валаама отозвалась для Зайцева острой болью. 14 декабря 1939 года начались бомбардировки Валаама (где размещался финский военный гарнизон) советской авиацией. 29 декабря Зайцев сообщает Бунину: «Оплакиваю Валаам. Сегодня вышел мой очерк о нем („Дни“, № 4). Вроде надгробного слова. Да – „заметает быстро вьюга все, что в жизни я любил“ – какое зрелище развертывает перед нами хам? А? Вся почти наша зрелая жизнь – этот миленький пейзаж». В следующем письме к Бунину (17.1.1940) приведен один из уникальных документов эпохи: «Нынче подали письмо с Валаама, от 14 дек<���абря> – первый день бомбардировки. Пишет знакомый молодой послушник – привожу целиком: „Дорогие и милые Вера Алексеевна и Борис Константинович, усердно просим вас обоих помолиться Господу, да спасет и сохранит Он Страну нашу, Обитель нашу и всех нас. Пожалуйста, передайте просьбу эту и Н. М. и И. К. Денисовым и всем другим, кто нас знает и помнит и кому дорога Обитель наша. Простите. Спасибо за все. Да хранит вас обоих Господь!“ Молюсь-то я о них и так постоянно – а тут взревнул, должен сознаться. Ведь подумай, это только первый день – (а по газетам бомбардировали неделю, как только позволяла погода). Да жив ли еще этот Ник. Андреич, плававший на их пароходе „Сергий“? Бог знает» [31] Письма Б. Зайцева И. и В. Буниным // Новый журнал. 1983. № 150. С. 211, 212, 213.
.
Интервал:
Закладка: