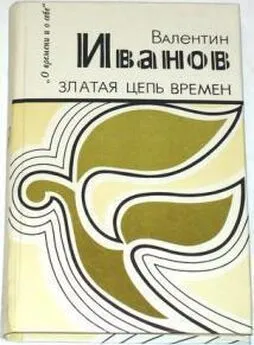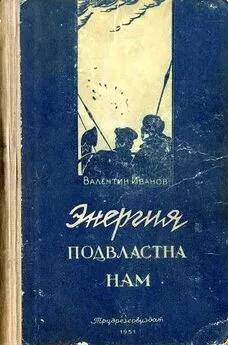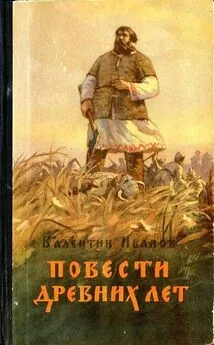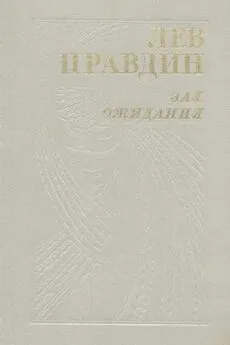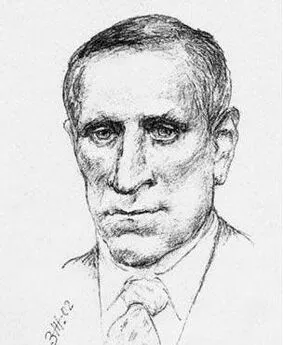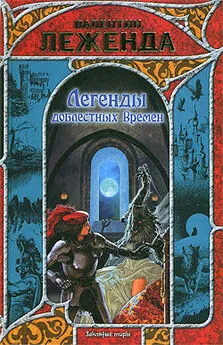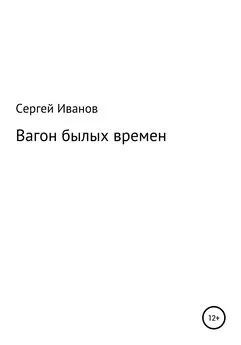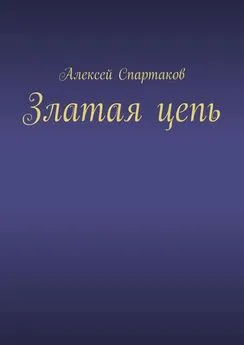Валентин Иванов - Златая цепь времен
- Название:Златая цепь времен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Иванов - Златая цепь времен краткое содержание
В книгу известного советского писателя Валентина Иванова, автора исторической трилогии «Русь изначальная», «Русь Великая» и «Повести древних лет» вошли его размышления о нравственном долге сегодняшнего поколения перед прошлым Отечества, о связи времен, о роли традиций в родной культуре и, прежде всего, - в искусстве слова.
Златая цепь времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С. Б. Веселовский говорит, что личные свойства Ивана IV бросили его в объятия доносчиков. Бесспорно, что развитие доносительства свидетельствует и о падении общественной морали, и о порче правового порядка. Но само по себе соглядатайство — древнейшее и естественнейшее явление. Элементы тайного надзора есть уже в семье, а хозяева и управляющие предприятиями часто хотят знать о своих подчиненных больше, чем видно извне. Опасность доносительства не в сведении личных счетов — это частность, — но в размахе его и в развитии профессионализма. Соглядатая трудно проверить, но еще более существенно то, что доносчик вырывает слова из контекста, редактирует по своему произволу, подчеркивает акценты. Подозрительность Ивана IV содействовала опасному развитию доносительства и его профессионализму.
В XVI веке классы и сословия на Руси имели одинаковое мировоззрение, одинаковые критерии добра и зла. С. Б. Веселовский указывает, что при организации Опричного двора «перебору» подверглись не только дворяне, но и все рабочие. Это понятно, так как думный дворянин судил происходящее с тех же позиций, что псарь, квасник, помяс, и все они выражали свое отношение в одинаковых словах.
Было бы клеветой на русский народ полагать, что действия царя Ивана не обсуждались и очень часто не осуждались. Судили и осуждали не только в замкнутом семейном кругу, но и публично; царь внимал, доносчики умножались, умножались и «обработчики» из числа тех, кому было доступно царево ухо. (Интересно вспомнить, что в XI (!) веке митрополит-грек предостерегал князя Владимира Мономаха против «уха», противопоставляя его «глазу», то есть приглашая верить тому, что видел сам, а не тому, о чем тебе доложили.)
Доносительство сплеталось с борьбой за влияние, за личное положение. На любом «верху», будь то царский двор, окружение президента или директорский кабинет, всегда происходит борьба за влияние, и морализировать по поводу этого естественного явления просто по́шло. Но как во всех человеческих деяниях, здесь решают «цвет», способы борьбы, мера соблюдения «приличий». А такое предрешается личными качествами человека, за влияние на которого состязаются окружающие, и мы знаем, что при дворе Ивана IV никакие приличия не соблюдались. Не только буквально бесчисленные исторические примеры, но и практика повседневности убеждают нас в существовании своеобразного правила: мастерами интриги являются люди в деловом отношении мелкие. Льстецы, подхалимы, ловко втирающиеся в доверие, ревниво относятся к людям дела. Для нас бесспорна правда упреков князя Курбского в том, что при царе Иване дельных людей заменили «потаковники». И потаковники эти, плодя и обрабатывая доносы, терроризировали царя в личных целях, чтобы упрочить свое положение, доказать свою незаменимость.
Склонность любого руководителя склонять ухо к доносчикам, поощрять подхалимов и доверяться им за их «преданность» всегда ведет к искусственному отбору работников по отрицательным признакам: последовательно и закономерно отсеиваются лучшие люди, и с течением времени кормило правления облепляется непригодными руками. На частном предприятии такое завершается разорением владельца, на государственном — личным крахом директора. В масштабе нации этот процесс развивается медленно. Большое государство обладает исторической инерцией, что метко выражено восточной поговоркой: «Имеющий только имя власти может держаться тысячу лет». Действительно, «имя власти», то есть историческая инерция, объемлет не поддающееся перечислению огромное количество мелких действий, которые в сумме образуют равнодействующую, направленную к сохранению режима. Нужны особенные, обычно внешние потрясения, чтобы вывести существующий порядок из давно создавшегося неустойчивого положения и погасить силу охранительной инерции. Четыре столетия тому назад — только двенадцать поколений! — обостренный изгнанием патриотизм князя Курбского не зря заставлял его призывать Ивана IV «не губить империю Святорусскую».
Моральный распад правящего аппарата — Государева двора — был распадом правопорядка. Оснащенный разными формами массового террора, распад правопорядка распространялся все шире, пока не охватил все государство.
При всей доказанной историей сложности понятия о юридическом праве, для каждого отдельного человека понятие права отождествляется с ощущением справедливости. Первая трещинка между родителями и ребенком возникает из-за несправедливого поступка старших, и у детей талантливых, а поэтому легко ранимых и памятливых, эта трещинка сохраняется на всю жизнь. Так называемое «обычное право» (от слова «обычай»), выражая наши представления о справедливости, выработанные сотнями поколений, живет в нас вне зависимости от законов писаных, кодифицированных, тщательно сформулированных. И каждый закон, не отвечающий нашему внутреннему, наследственному понятию о справедливости, при нашем личном столкновении с ним представляется искусственным, враждебным крючкотворством. Так, вопреки многим столетиям действия разработанных законов о землевладении, в сознании русских крестьян до самого 1917 года продолжало жить старорусское обычное право: владеет землей тот, кто лично ее обрабатывает.
Описав практику опал Ивана IV, С. Б. Веселовский показал, как обычное право, регулировавшее отношения между князем и дружиной с древнейших времен русской государственности и перешедшее на отношения между московскими государями и правительственным аппаратом, было сломлено Иваном IV и заменено неограниченным самовластным произволом. Этот произвол, объявленный благодетельной целью монарха, стал «идейной» сущностью Опричного двора. Опричный двор, по внешнему виду копия старого Государева двора, явился его антагонистом именно потому, что был основан на произволе, тогда как старый двор опирался на обычное право. Возможно, что если бы при Иване IV были выработаны затемняющие действительное положение и действительные цели красивые теории, если бы общественному сознанию (и исполнителям и жертвам) были даны широковещательные мосты для перехода к якобы лучшему состоянию, то система опричнины оказалась бы более жизнеспособной. Были ли такие попытки сделаны, какие советы получал Иван IV, в чем причина казни некоторых опричных бояр из числа наиболее видных опричников? Ответом могут быть лишь домыслы, которых мы хотим избежать. Важно то, что уничтожение Иваном IV старого правопорядка без замены его каким-либо иным правопорядком вызвало следствия, которых, по справедливому замечанию С. Б. Веселовского, сам Иван не предвидел и не желал. Но здесь необходима оговорка: Иван не предвидел и не желал ослабления, истощения государства. Но во всех формах террора он подавал пример: убивал своей рукой, присутствовал и лично принимал участие в пытках, был распорядителем массовых страшных казней.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: