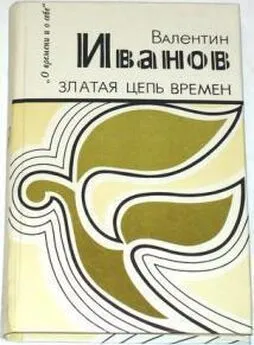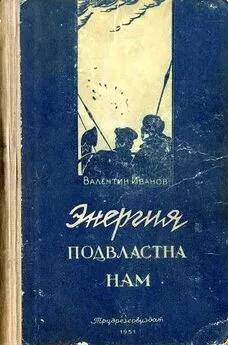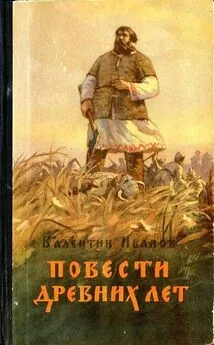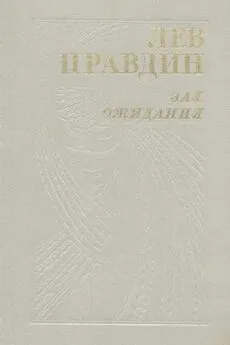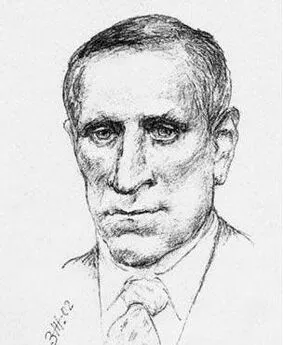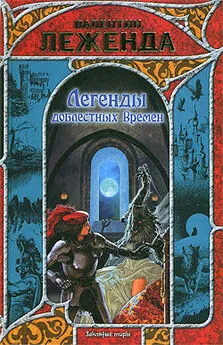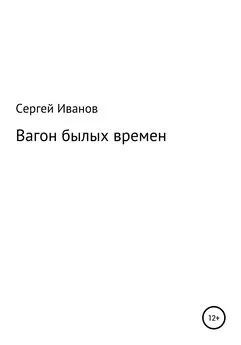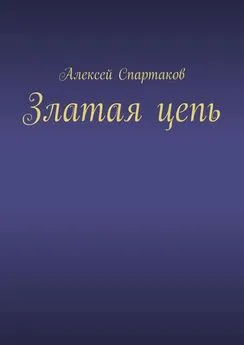Валентин Иванов - Златая цепь времен
- Название:Златая цепь времен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Иванов - Златая цепь времен краткое содержание
В книгу известного советского писателя Валентина Иванова, автора исторической трилогии «Русь изначальная», «Русь Великая» и «Повести древних лет» вошли его размышления о нравственном долге сегодняшнего поколения перед прошлым Отечества, о связи времен, о роли традиций в родной культуре и, прежде всего, - в искусстве слова.
Златая цепь времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда начинали мы все новое, те, кому пришлось налаживать госторговлю, на упреки за промахи в новом деле отвечали: «Ну, и становитесь на наше место!» И даже охотно свои места уступали. Впрочем, такое случалось во многих местах, не в одной госторговле.
Сегодня наши архитекторы в себе уверены. Пора научиться.
Вероятно, по мере способностей отдельных архитекторов, Москве суждено обезличиваться и дальше. Уже видно, как их трудами Москва, вместо того чтобы развивать себя великим историческим городом современности, разрывает и уничтожает свою народную историю. Ей грозит превратиться в город вчерашнего дня. Именно вчерашнего, так как потребительство растет как гриб, и бетоном его никак не догонишь.
В искусстве случайные плоды случайных увлечений, выкрики приходящих мод, результаты неудачных поисков уходят в небытие сами вместе с ремесленными подделками, а доля поглощенного ими национального дохода ничтожна.
В архитектуре воображение авторов материализуется горами бетона и стали, вцепляясь в землю миллиардами рублей. И здания остаются неизбежным, пусть нежеланным наследством.
*
…Чтобы выразить себя, иначе говоря, чтобы создать произведение художественное, надобно во-первых, во-вторых, в-третьих быть до конца самим собой. При всей множественности пишущих (или начинающих писать), их, мучеников пера, в сущности немного. Не верю, что автор М. Ю.[9] — стертая монета, без года, без собственных знаков. Чтобы предпринять труд необычный, не повседневный, никем не заданный в порядке службы, чтобы найти время, много времени, и, наконец, чтобы не разочароваться и повторить попытку, нужны воля и внутренний жар. Надо увлечься. Характер увлечений определяется призванием.
Начинающему писателю необходимо пробиться не через засеки редакционных безразличии, а проклюнуть самоличную скорлупу.
Писать так просто, как бы между прочим, становится все труднее. Уж слишком густо заселился мир. Трудно подобрать заглавие, так много было заглавий. Трудно найти нетронутую тему. И очень, очень трудно прорубить незримо давящий всех нас и каждодневно разрастающийся лес штампов. Уже нельзя пользоваться ни одним словосочетанием, примером, синонимом, ассоциациями классиков: хуже, чем плагиат, они навязли в зубах читателей, и те бросают за окно книги-фальсификации.
Ибсеновский Фальк утверждает право поэта воспевать любовь, хотя «любовь стара, как чай. А чай китаец пил, когда был жив еще Мафусаил…». Да, но извольте спеть свою песню о любви! Иначе получится трагичное «вне игры» иных наших поэтов — их не читают. А если и читают, то упрекают: не Пушкин, не Лермонтов… Однако Александр Блок не слышал таких упреков, хотя и был Блок действительно не Пушкин. Он был самим собой! Вот где секрет творчества и жизни в творчестве!
Всех нас, коль мы сами , а не тряпично-костюмерная личина, и встретят, и полюбят, и будут любить, не попрекая отсутствием сходства с Аполлонами, Афродитами или с более близкими божками.
…На каждой странице повести М. Ю., в каждой фразе штамп, штамп, штамп. Ничего своего, все вялое, сохлое. Не разнотравье — сено.
На Востоке есть поговорка, что, дабы хорошо что-либо знать, нужно сперва выучить, а потом забыть. Это хорошо в применении и к литераторам. Прекрасное, точное выражение. Знание, сросшееся с личностью; разум, тренированный, как пальцы виртуоза-пианиста; повествовать, как птица поет; жить в искусстве, а не возиться в пыли наук, как бездарный гетевский Вагнер.
Но ведь это идеал, возразят мне. Это недостижимо ни для кого! Конечно. Но ведь меня или Н. Н. и не собираются мерить подобным эталоном. Нам, рядовым, нужна крупица, нужна одна блестка, но добытая из копи глубокой, настоящей копи.
Читатель так же стремится к настоящему слову, как дикая коза к горькому выпоту на черной грязи солонца.
Наше право учиться у мастеров всех времен и племен. Учиться делать, не подражать. Настоящее обучение в том-то и заключается, чтобы не подражать . Эстафета культуры. С той разницей от спортивной, что передаваемый предмет (по старой терминологии — огонь) должен чудесно-творчески преображаться в очередной руке. Высшая оценка искусства — неподражаемо.
Подражать необходимо безусловной грамотности. В данном месте я разумею не школьную грамотность, а уменье говорить именно тем складом мыслей-слов, какие, во-первых, нужны для возбуждения чувств читателя и, во-вторых, отвечают свободно проявляемой личности автора. Что тут первое, что второе — неважно.
Неужели все дело в личности автора? Конечно. Как и везде, в литературе один больше, другой — меньше. Но коль они сами , то каждый оказывается нужен и живет в творчестве. Блок думал о праве любого писателя взять бремя превыше своих сил. Более того, считал это обязанностью. Верно, если писатель берется сам , он поднимет. Пусть оттащит недалеко и за то услышит спасибо от людей.
Внутренняя писательская работа требует настройки. Настройщиков нет и не будет: нет и не будет рецептов. Мысли эти стары. Лев Николаевич Толстой говорил, что писатель должен хорошо знать, где добро, а где зло.
Каким же советом в меру моих скромных сил могу я помочь М. Ю.? Попробую.
Уж если М. Ю. действительно не может не писать, пусть пишет (это не мои слова). Думаю, в самой литературной работе кроется на какой-то срок ощутимая награда. Авторское горение может принадлежать, кажется, к наиболее ценной части вознаграждения за труд.
Есть две редакции повести М. Ю. Они, по существу, равноценны, движения вперед я не вижу. Думается, хватит этого. Заколдованное место. Пускался по нему с одной и той же позиции гоголевский дед не однажды — не вытанцовывалось. Символична или нет сказка Гоголя, судить не стоит. Но писание третьего варианта заставит М. Ю. вольно-невольно, а повторять одно и то же. Лучше начать наново. Если же опять о старом, то забыв все, что сказано ранее .
Но о чем бы ни писать — травить, бить штампы, гнать их. Как, каким способом? Думаю, писать как можно проще. Для этого влезать по очереди в каждого героя, тогда получится глубокая, волнующая, убедительная простота. Так это сложность? — спросят меня. Пожалуй. Не гонясь за парадоксами, поясню примером, будет легче высказаться.
Вот в чем дело. Думаю, по опыту чтения многих пьес, что драматург не случайно расставляет фигуры, особенно «ведущие». Состав трупп стандартный, драматургу известны могут быть и фамилии будущих исполнителей. Главные роли — от двух до четырех, настоящие актеры. Далее, фон, «выходные» без слов или с двумя словами: «Карета подана, кушать подано…» Как в купринском рассказе: «Он идет…» Такие роли доверяют кому угодно. Недавно в одной современной пьесе видал в такой выходной или проходной роли пожарного. И право же, он не украл те рубли, которые ему выписали дополнительно к основной ставке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: