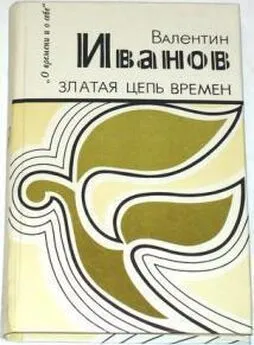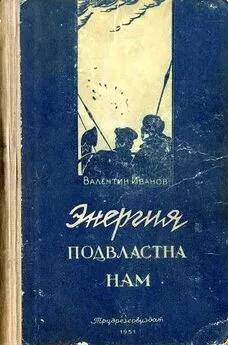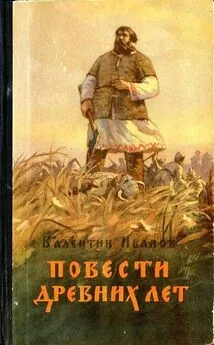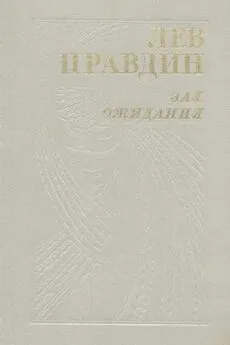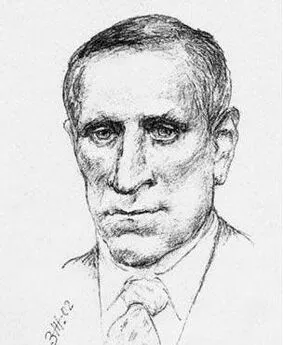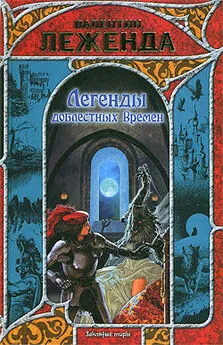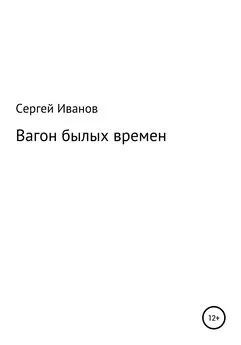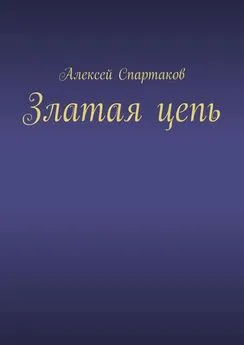Валентин Иванов - Златая цепь времен
- Название:Златая цепь времен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Иванов - Златая цепь времен краткое содержание
В книгу известного советского писателя Валентина Иванова, автора исторической трилогии «Русь изначальная», «Русь Великая» и «Повести древних лет» вошли его размышления о нравственном долге сегодняшнего поколения перед прошлым Отечества, о связи времен, о роли традиций в родной культуре и, прежде всего, - в искусстве слова.
Златая цепь времен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…Действительно, зачем нам, читателям, знать, что писатель всяческий свой опыт, знания, переживания вложил, так-то и так-то их приспособив? Что мы, дурни, не понимаем этого? Но мы, читая, и думать о таком не хотим. Мы хотим правды! Мы хотим верить написанному. Нам совершенно ни к чему объяснение, что автор — бывший кавалерист, знает ремесла, бывал там-то, и поэтому ему удались, к примеру, такие-то места в «Руси изначальной».
Да, писатель обязан знать, о чем пишет. Да, великолепно, когда плотник, каменщик, кузнец, инженер, агроном и т. д. не спотыкаются на описаниях соответствующих действий, попавших в сюжет. Но еще главнее — верность живых людей, их поведения, верность, ощущаемая читателем даже тогда, когда он самолично в таких житейских коллизиях не бывал. И самый большой успех писателя достигается тогда, когда читатель уходит в книгу, забывая себя и писателя.
Сколько бы ни знал писатель, каким многоопытнейшим он ни был, все это праздно, коль ему не удается изображение , рассказывание. А как это достигается — никто не знает: я разумею систему, обучение писательству.
Есть и еще одна удивительная вещь в суждениях о литературе — язык отделяют от содержания. Но ведь язык и есть книга, нет языка — нет книги. О чем бы ни писалось, должен быть язык — эта функция мысли, ее плоть, отвечающая каждой ситуации. Здесь, конечно, легко потеряться в просторе, открытом для мысли и чувства. Скажу только, что мы все не замечаем бледной бедности речи переводного детектива, забавляясь условными марионетками. Но не потерпим, если автор на том же языке пустится говорить всерьез. Все равно, что в строй живых солдат поставить оловянных.
…Возвращаясь к теме, надеюсь, что убедил вас в том, что в моей холодности к Вашему намерению нет каприза. Просить Вас не писать — бессмыслица, ибо это Ваше право.
20.XI.1968
*
Уважаемый Виктор Петрович!
Видите ли, человек, который не только перешагнул за шестьдесят лет, но уже близится к семидесяти, производит свои оценки и переоценки так, что порой рискует быть не понятым, пусть у него еще достаточно сил. Поэтому — насчет штампов.
Каждому человеку во все времена приходится жить среди всяческих штампов. Штампом я называю здесь оборотную сторону драгоценного и свойственного лишь человеку уменья создавать традицию — передачу познанного. Но, в отличие от пережитого, от добытого нами самими, традиция, принимаемая нами на слух и память, может по законам диалектики терять свои положительные качества, костенеть или коснеть: получается штамп. Но штамп — вещь заманчивая. Он многое облегчает, объясняет, в общениях между людьми он становится не только символом — объединяющей формулой, но и средством общения, флагом, что ли, под который собираются единомышленники.
Отрицать и факт, и возможность того, что кто-то смотрит на данную вещь иначе, чем я, есть общеупотребительный штамп. И если этот человек отрицает мой штамп, то я думаю — нет, братец, ты хитришь. И разыскиваю, точнее сказать, воображаю себе обстоятельство, заставляющее его хитрить.
Есть поговорка — голодный всегда украдет. Однако же крадут не все, далеко не все голодные. Известно, что в одинаковых обстоятельствах разные люди поступают по-разному. И есть римская поговорка: равные причины не равные предвещают следствия. И есть чье-то выражение: если человек думает иначе, чем ты, это еще не доказывает, что он глуп.
Так вот уверяю Вас, что в книге меня всегда интересовала только книга, а не написавший ее. Писатель замечается читателем — я разумею «простого» читателя, то есть того, для которого только и пишутся книги, — лишь тогда, когда он, писатель, начинает врать, то есть заставляет читателя отрываться от книги либо психологическими несообразностями, либо болтовней о том, чего он, писатель, не знает, ну, и еще многими грехами…
О себе, как о читателе, скажу, что как только я начинаю ощущать «композицию», «лепку характеров», я начинаю критиканствовать.
Но ведь Вы, человек ученый, дипломированный, преподающий другим, чего доброго обвините меня в проповеди анархизма. А право же, я не проповедник. Я просто в силу своего возраста, как многие мои сверстники, проломился через штампы.
Вот Вы пишете — «неприязнь к критике» «объясняется ее невниманием». Вы судите меня по штампу, врешь, мол, ты лично обижен. Ну, а если я из тех голодных, которые не крадут? Или — вообще не голоден? Со стороны, да еще постороннему, в строю все солдаты одинаковы. Но для старшины, для взводного, для ротного они куда как разные: за полкилометра в спину узнают.
Вы, говоря о том, что сейчас у всех нет интереса к минувшему, создали себе личный штамп. Вы говорите: «Все интересуются лишь собственными страстями, своим «я». Эти «все» чрезмерно обобщены. Читатель многослоен. Книготорг дает заказы на исторические романы в количествах, во много раз превышающих посильные для издательства 65 — 75 тысяч экземпляров всего тиража. В магазинах исторический роман продается в два-три дня, в библиотеках не только читается, но и зачитывается, то есть иной читатель, ссылаясь на утрату, возмещает цену, чтоб осадить книгу на свою полку: все это известно мне не от одних библиотек, но и по читательским письмам. Не берусь определить численность тех, кто интересуется историческими вещами, но их довольно много. В библиотеках популярность создается не статьями, но читателями: достаточно двух слов, чтоб взяли книгу.
Вот так-то. Повторяю мой совет не писать о моих романах. Даю его искренне, от чистого сердца.
У меня есть правило считать каждого встречного добрым человеком, пока он сам не докажет обратного. Рекомендую и Вам это правило, с ним проще жить. Это не значит, конечно, что следует пускать в дом первого встречного, но не обязательно же считать прямую речь шифром.
Все мы, по человеческой слабости, детерминисты, хоть и знаем, как трудно, в общем-то, устанавливать казуальные связи. Европейская криминалистика установила для второй половины XIX века, что половина преступлений против собственности совершалась людьми с пустым желудком. Казуальность была очевидна, выводы просты. XX век показывает иное.
Критика, точнее, распространенное у нас литературоведение хочет изучать искусство научными методами; хотя искусство не наука, парадоксальность положения не замечается, как, впрочем, было всегда. Потому что всегда находились усидчивые, способные люди, которые писали по правилам.
Но пора кончать, так как я съезжаю в скучную, всем известную область.
7.I.1969
*
Дорогой Валериан Николаевич, очень благодарю Вас за внимание, горячо желаю Вам в наступившем году благополучия и здоровья.
Виноват перед Вами, не ответил вовремя и не поблагодарил за большое Ваше письмо, за Дельбрюка: увлекся и тем, и другим и в текучке как-то не заметил, что не откликнулся вовремя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: