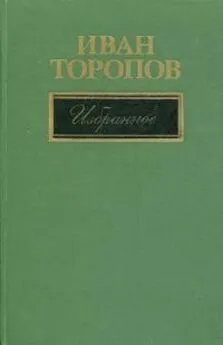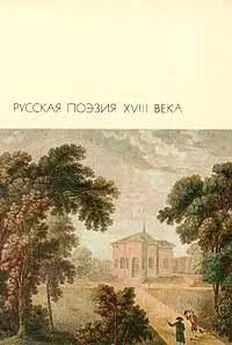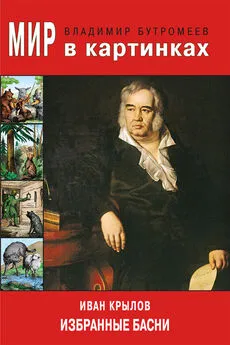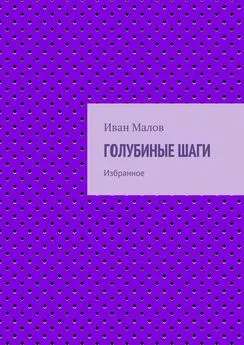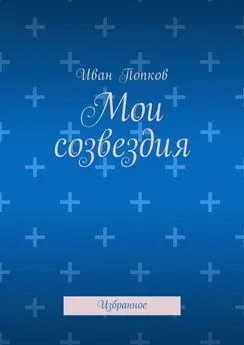Иван Торопов - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Торопов - Избранное краткое содержание
Судьба Феди Мелехина — это судьба целого поколения мальчишек, вынесших на своих плечах горести военных лет.
Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не пропали!.. Крылья оперились,
И хоть тропка всякому своя,
Не искали тени, не ленились —
Все твои при деле сыновья, —
писал в ранних стихах Иван Торопов, обращаясь к своему погибшему отцу Григорию Кирилловичу. «Не пропали!..»
Плывет по жизненным волнам та отцовская лодка. О ней не раз вспоминает и двойник автора Федя Мелехин в рассказе «Шуркин бульон». Видится она ему как светлый луч из довоенной, счастливой жизни. «…Вокруг пело и благоухало теплое, духмяное северное лето, щедро наливалось к осени всякими лесными плодами. И был вокруг нас первозданный покой. О чем-то задумчиво шептался могучий лес. И беззаботно переговаривался с нами звонкий ручей…»
Нет, все-таки как талантлива и притягательна эта проза Ивана Торопова!.. Плыть ей, как песне, по родным северным рекам дальше!
ВАДИМ ДЕМЕНТЬЕВ
Дорогим моим родителям Марии Александровне и Григорию Кирилловичу посвящаю
РАССКАЗЫ

ШУРКИН БУЛЬОН
Весной сорок четвертого померла наша мама, и стало нам совсем трудно жить. Осталось нас четверо — три брата и сестренка маленькая. Мне, самому старшему, шел пятнадцатый, а меньшой, сестренке, исполнилось четыре. Отца на фронт взяли в самом начале войны, и пропал он под Ленинградом.
Хотели всех нас отдать в детдом. Но мы, три брата, уперлись: не пойдем. Чегой-то нам идти, у нас свой дом есть. Сестренку придется отдать, временно, конечно, — мала больно. А мы, братья, дома будем жить. Уж не маленькие, как-нибудь.
Дом наш был большой, с двумя половинами: летней и зимней, сзади сарай, тоже большой. Без мамы пришлось самим держать все хозяйство — дрова рубить, воду таскать, печку топить. Даже полы мыть. Каждую субботу прибирались, ножами скребли некрашеные полы из широченных плах. Мы бы очень не старались, ну а вдруг отец явится с фронта? Вдруг войдет в избу, скажет: эко, грязью заросли…
Потом научились мы и белье стирать, хотя нудная эта работа и вовсе не мужская. Сначала-то, с непривычки, пальцы заволдырились, сильно заболели, а потом ничего, пообвыкли.
И всякой другой домашней работы по горло хватало: в огороде копаться, изгородь поправить, крышу латать. Втроем еле управлялись, а раньше-то мать с отцом все делали, как и успевали, вдвоем-то…
Зато и было нам в радость, когда соседские бабы хвалили нас: эва, какие молодцы, все сами, все сами!
Да это чего… Ко всякому делу, даже к стирке, можно привыкнуть, обтерпеться. А вот к голоду — никак.
Мать, бывало, чего-нибудь да сготовит: бурду какую сварит, либо лепешки с травой напечет, либо еще чего, — живот обмануть. А мы никак не словчимся, и попадет если какой харч, мы его так всухомятку и сжуем. По правде-то, харчи нам не очень перепадали. Как мама померла, я, конечно, из школы ушел и начал работать в колхозе. А какой колхоз был в войну? Ни деньгами, ни хлебом нас не баловал. Пенсию за отца нам платили, семьдесят пять рублей в месяц, вот и все наши капиталы. Да на них-то ничего не купишь, без карточек такие деньги все равно что бумажки…
Своей картохи нам до весны не хватило, и как только с полей сошел снег, стали мы кормиться перезимовавшей, с полей. Это уже… не совсем картошка, а так, бурый сгусток в сморщенной шкуре. Идешь по жидкому полю, земля тебя засасывает, будто болото. Комок-картошину найдешь, и сердце вздрогнет, будто самородок нашел. Да не часто они попадались, картофельные самородки…
Соберем мы эти серенькие комочки, сколько попадется, обчистим, разбавим водичкой, посолим и — лепим. Лепешки шлепаем прямо на плиту и ждем-переминаемся, когда они зарумянеют… Ох и вкусны же, стервы! Хоть и отдают гнилью, а похрустывают на зубах, будто настоящие… Ешь, не дыши. Нажремся без меры — и сидим, до того сытые, аж худо. Раза два поели так, а на третий младшему нашему, Шурке, стало совсем плохо. Было Шурке всего одиннадцать: он из нас самый красивый, — смотрит вокруг и будто все думает о чем, и глаза у него громаднющие, голубые, личико нежное, и волос светлый, вьется. Его в деревне девушки Ангелочком звали. И правда, похож.
И вот начало Ангелочка тошнить. К вечеру бросило в жар, дышит тяжело, глядит тоскливо, а глаза такие больные-больные. А мы, остальные два брата, сидим возле него, не знаем, что и делать. Мокрую тряпочку кладем на лоб, она почти сразу и сохнет, такой жар у братана.
Сбегал я к тетке молока попросить. Они с соседом пополам корову держали. Дали мне. Потом побег в леспромхоз, в ихнюю пекарню, — может, хлеба свежего дадут. Дали. Бегу обратно, до того рад, что все достал, до того рад, даже сам есть не хочу, только хлеб понюхал, братану тащу. А Шурка уже и не ест, не лезет в него. Головой качнул и не берет. Меня аж слезы пробрали — это ж я как просил, это ж я как нес, крошки не уронил, капли не пролил! А он не ест. Да слаще свежего ломтя с молоком и нету ничего. Совсем, значит, худо нашему Шурке. Побег я тогда за фельдшером. Тот пришел, дал Ангелочку таблетки. И таблетки не помогли, так и горит Шурка, так и мечется. Правду говорят — горе грянет, не спросится…
Соседки-бабы заругали меня, ты, мол, виноватый, из-за тебя мальчишки в детдом не пошли. Теперь помрет Ангелочек, бедненький, жалко до чего парнишечку.
Тяжело, оказывается, быть старшим. Старший брат — это все равно что отец. Тем более и матери нет. Сердце у меня за Шурку болит, а чего еще делать, не знаю. И не присоветует никто, хоть плачь, хоть так сиди. А и плакать нельзя, старший брат все же…
Гляжу — идет к нам в дом Пока Митит, кряхтит дед, отдувается, согнулся, как санный полоз. Сел на лавку, минут десять кашлял. Потом какой-то кулек на стол кладет.
— Кхе, кх, ему бы чего повкуснее… кх, кх, все перешарил, а чего, кх, найдешь… жжысь пошла… Рыбки вот притащил, хоть ушицы сварите…
Отдышался дед, потом Шурку начал щупать. Живот пощупал, ребра пощупал, спину, на язык поглядел. Будто понимает чего. Будто фельдшер. Руки у деда желтые, костлявые, страх…
Ему бы, говорит, бульону из лесной дичины. Мой Гришка, говорит, когда грибами объелся, так я его, говорит, на ноги поставил глухариным бульоном и морсом из клюквы. Не дал помереть Гришке маленькому, теперь его большого Гитлер укокошил. Ты, Федор, говорит, бери ружьишко да и сбегай в лес, может, подстрелишь кого. А дойдешь до Сергей-бани, можешь и глухаря поднять. Там, говорит, у вашего Сергей-рода бога-атые угодья были, и банька, должно, цела еще. Травка, говорит, уже проклюнулась, зайчишки выходят на полянки, пасутся. Иди, говорит, может, чего и добудешь…
Жалко мне Шурку, а от стариковых слов тоже не по себе: ведь к Сергей-бане идти, не миновать ночевки в лесу. В этакой-то глуши. До тех мест верст десять будет или больше. Там я бывал уж, места знаю… Еще до войны мы с отцом там были, он тогда себе лодку долбил. И раза два за ягодами ходил в ту сторону. Но не один же! Один-то я в жизни не ночевал в лесу. Одному-то в лесу ночевать — как?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: