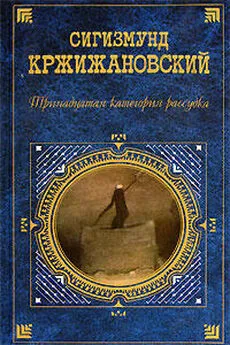Сигизмунд Кржижановский - Воспоминания о будущем [избранное из неизданного : сборник]
- Название:Воспоминания о будущем [избранное из неизданного : сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-239-00304-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сигизмунд Кржижановский - Воспоминания о будущем [избранное из неизданного : сборник] краткое содержание
В книгу вошли произведения, объединенные в основном «московской» темой. Перед нами Москва 20–40-х годов с ее бытом, нравами, общественной жизнью.
Воспоминания о будущем [избранное из неизданного : сборник] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У меня под крышкой пенала почти вся карандашная Москва. Выдвигаю крышку. Содержимое на стол. Вот:
толстый сложноограненный, двухцветный карандаш: уравнен в правах с пером, но… и на оба цвета; может: одним концом — так; другим — этак;
ломкий, но острый графит: для сохранности он у меня под металлическим наконечником;
круглый, под скользким лаком, чернильный карандаш: уравнен в правах с пером, но…;
пачка еще не очиненной карандашной молоди;
несколько куцых, вконец истершихся о бумагу карандашных огрызков.
Кажется, всё. Ну, будет: ссыпаю мою литературу назад: под крышку. Всего вам доброго, мой далекий друг.
Письмо шестое
Лет сто тому назад в центре кривоуглого многоугольника Арбатской площади стоял большой деревянный театр. Под его круглый, повисший над белыми колоннадами купол ежевечерне собирались толпы московских театралов, чтобы поспорить о том, чья игра приятнее: м-ль Жорж или девицы Семеновой.
Театр давно уже сгорел, спорщиков давно на рессорных катафалках развезли по могильным ямам, там, где был помост, легли плоские камни мостовой, и по ним, будто доигрывая какую-то длинную и скучную массовую постановку, всё бегут и бегут люди, — и только один странно замешкавшийся зритель все еще медлит покинуть свое бронзовое кресло в амфитеатре. Веки его опущены; если мысленно провести из-под них зрительные оси, они ткнутся об углы острых ног, упершихся в квадрат постамента. Зимой снег бережно ложится чистым неисписанным листом на колени к зрителю. Но сейчас июльские жары — белая рукопись давно уже стаяла, — и на бронзовых коленных чашечках гиганта дерутся и чирикают воробьи.
Когда начинается летняя истома, даже я устаю кружить по московским бульварам и обжигать себе подошвы о размякший и раскалившийся асфальт. Сейчас шагать по Москве — это значит проталкивать себя сквозь отяжелевший, с порами, забитыми пылью, воздух, — переступать через мелом по тротуарам расчерченные «городки», внутри клеток которых с сосредоточенной серьезностью играют дети; идти мимо весов, ждущих граждан, как означено над весами, «уважающих свое здоровье», и мимо грязных лотков с гнилой шепталой.
Я не мешаю детям строить поперек панели их детские «городки» (пусть не мешают и мне), к шептале чувствую отвращение, здоровья своего «не уважаю», — а потому, пройдя лишь квартал-два, сажусь на скамью, что против бронзового человека, и, вытянув ноги, учусь у понурой бронзы не смотреть . Иногда, зажав покрепче веки, я подымаю лицо под прямой удар зенитных лучей (на Крым мне не хватет червонцев, объяснять же вернувшимся друзьям, почему не загорел, долго и скучно); а то, захватив с собой пачку книг со свежими датами, прячу глаза под их обложки. За этот месяц я успел перелистать тысячи страниц, и странное чувство овладевает мной, когда я стараюсь отыскать и отчетчить себе «во имя» всего этого свежего типографского вороха.
«Идеологии», скажем так, всех этих беллетристов-бытовиков, которые сейчас в 90 %,— заблудились, почти по-пошехонски, в трех карандашах; темы их пляшут даже не от печки, а от станка, станок же знаком им по энциклопедии Граната.
Все эти претенциозные крашеные обложки делают свое дело так: берут пустоту и одевают ее, ну, хотя бы в кожаную куртку; после того как все пуговицы на пустоте застегнуты, не знают, что дальше. Даже наиболее талантливые, наиболее разгонистые карандаши и те в своих новеллах и романах неизбежно влюбляют чекиста в белогвардейку, белого офицера в революционерку и т. д. и т. д. до ряби в глазах. Повторяю: карандаши остры, глаза цепки; за бытом установлена строжайшая писательская слежка, быт пойман в блики и не столько зафиксирован , сколько арестован , насильно втиснут в строки.
Однако все это по фактуре настолько сложно, так ветвится и ускользает от точного анализа, что я продолжал бы свои читательские опыты и впредь, если бы не один чрезвычайно простой и вместе с тем четкий случай, который вчера круто оборвал мое чтение. Возможно, что надолго.
Дело было перед вечером. Я сидел за бронзовой спиной Гоголя на одной из первых скамей Пречистенского бульвара. Дочитав белый томик Аросева, я поднял глаза: прямо против меня на песке бульвара играла крохотная девочка. Рядом с девочкой, черная и разлапистая, лежала тень от дерева: ползая пухлыми коленками по земле, девочка — не карандашом, нет, куском тупого деревянного тычка пыталась обвести черную кляксу тени. Но к вечеру тень ползает быстро, и не успевала девочка обвести черту от одного ее края до другого, как тень выползала уже дальше, за обвод, тщательно вчерченный в песок. Нянька давно уже тянула ребенка за руку, говоря, что пора кончать. Но и девочка, и, признаюсь уж, я тоже, мы оба так увлеклись, она — ловлей теней, я — своим наблюдальческим, почти читательским занятием, что, когда наконец и ребенок и нянька ушли, я испытал даже некоторое чувство досады.
О, теперь я понимал эту белую книжечку, что лежала у меня меж ладоней: она, да и все они умеют лишь обводить уползающие тени. Только. Но тени, в отрыве от вещей, быт в отрыве от бытия ; бессильны и мнимы. Ведь быт — и «я» бытия ; своим «я» он не богат. И если уж отрывать от вещи тень, от бытия быт, то незачем останавливаться на полпути; надо, взяв быт , оттяпать ему его тупое «т»: бы — чистая сослагательность, сочетанность свободных фантазмов, которые так любит А. Грин, — вот первый выход из мира теней в мир прихотливой романтики; бытие , в которое, как слог, как ингредиент, включен быт , — вот второй выход из «обители теней»: он известен, пожалуй, лишь одному Андрею Белому.
Ну, простите за эту, может быть, невразумительную алгебру. Пора дописывать. Мои 10,5 кв. арш. раскалились за день. Душно. Пойти бы куда-нибудь. Да некуда. И не к кому.
Письмо седьмое
Сейчас я очень занят: ищу Москву на библиотечных полках. Не обошлось без таинственного ящика ученейшего и добрейшего Петра Николаевича Миллера; ящик этот набит квадратными билетиками: какой билетик ни выдерни, на каждом одно и то же слово — «Москва». Третью неделю сижу в просторном верхнем зале Исторического музея и отряхаю пыль со старых книг о Москве. Спросите: что же я нашел под пылью? Пеплы.
Да, мы на сорока пеплах живем, сорок пеплов топчем.
Я еще не кончил работы, но уже могу утверждать: в кирпич и в камень Москву обрядила копеечная свечка . С упорством, отнюдь не копеечным, она жгла да жгла Москву из года в год, пока та от нее в камень не спряталась. История этих испепеляющих копеек, жалких оплывков, слизывающих с земли весь труд, нагромождаемый сотнями тысяч людей, может быть рассказана в сухих цифрах. Старые приказные акты, еще более древние летописи, позднейшие мемуары и, наконец, совсем новые протоколы Управы благочиния и полиции дают не полную, но достаточно определенную статистику. Вот малая горсть цифр: Всехсвятский пожар в 1389 году; еще до него — в 1354 году; в 1451 году Кремль и посад сожжены почти начисто татарами; череда пожаров: 1442–1475 — 1481–1486 годы; или к концу XVI века Москва горит: 1572–1591 годы; и перевалив в XVII век, в 1626–1629 — 1648–1668 годах; дальше — в 1701–1709 — 1737–1748 — 1754 годы и т. д. и т. д. Отмечаю только «всемосковские», снимавшие с земли 1/4–1/3 — даже 1/2 всех жилых и нежилых строений. Пожарам дают особые имена — Всехсвятский, Большой Троицкий, Малый Троицкий и пр. В течение столетий копеечная свечка, не унимаясь, делает свое дело: затлевает пожар где-нибудь в часовенке, у постава иконы, затем ползет по переходам, стропилам, с клети на клеть, швыряя головешками с кровель на кровли, перемахивает огненными языками через каменные стены Кремля, ползет вверх к шатрам башен и колоколен, роняя на землю колокола, среди разрастающегося гула толп и ударов набата. Затем — остывающий пепел и опять муравьиная спешная стройка на пять-шесть лет. Потому что через пять-шесть лет копеечная свечка опять возьмется за свое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Сигизмунд Кржижановский - Воспоминания о будущем [избранное из неизданного : сборник]](/books/1069875/sigizmund-krzhizhanovskij-vospominaniya-o-buduchem-iz.webp)