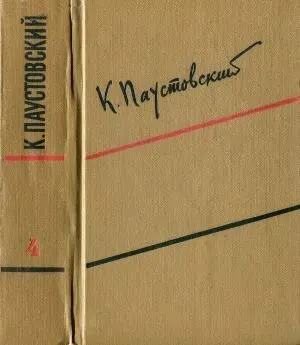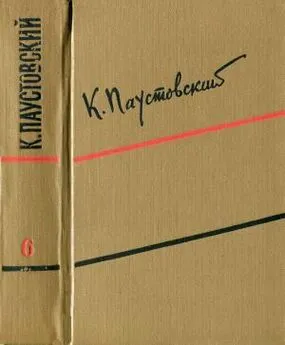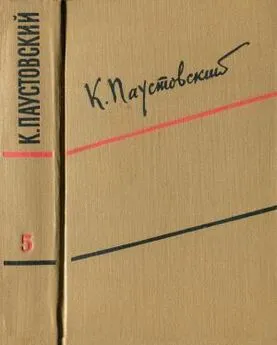Константин Паустовский - Том 9. Письма 1915-1968
- Название:Том 9. Письма 1915-1968
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1986
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Паустовский - Том 9. Письма 1915-1968 краткое содержание
Том 9. Письма 1915-1968 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только что Андрей долго и подробно докладывал о возмутительном случае, Маркиз укусил за ногу сивую кобылу — «он завсегда такую подлую физиономию (привычку) мает». Вопрос сложный. Теперь надо Маркиза наказать, — запречь его завтра в фурманку. Я слушаю его рассказы о лошадях, и мне досадно — как хорошо бы вместе с тобой скакать верхом по запушенной снегом лесной дороге.
Когда приеду — расскажу все. Близкий отъезд так радостно волнует меня, что я не могу писать, — все дни дурачусь и привожу в ужас фельдшерицу Софью Львовну, народницу. «Этот бедный, несчастный, слепой народ!» Лечила она меня очень заботливо, хотя и спорили мы с ней каждый вечер до головокружения. Приносился Вронский, «маленький рыцарь», верхом на надушенной лошади. Иногда у нас бывает весело.
Говоря по совести, — не стоило бы ехать к Вам, — Вы упорно молчите, миледи, и это действует на меня так скверно. Если бы я получил во время болезни хотя бы одно только письмо, маленькое, нацарапанное каракулями письмо, я выздоровел бы скорее и раньше бы выехал. Сестре пишу отдельно. Привет.
Боже, как скоро. Целую. Твой Котик.
Писать мне не стоит, родная. Я ведь такой непутевый, к тому же твои письма меня уже не застанут.
1916
8 января 1916 г. Ночь
С утра в Университете. В студенты меня зачислили вновь, но еще осталось много досадной возни с документами. Когда все определится — тотчас же напишу. Я думаю о том, что если мне удастся все сделать и меня не призовут, — я приеду к тебе в Ефремов или Севастополь. Ты знаешь, — сейчас я словно мертвый, говорю и хожу, как сквозь сон, ничто меня не занимает. Никуда не тянет идти. Такой боли у меня еще не было, глухими вечерами мне хочется плакать, хочется забыть все, уйти к тебе, взять твои руки, держать их и не отпускать. Все время странная внутренняя дрожь. Мне не стыдно сознаться в своей слабости, сказать тебе, что одну тебя, только тебя люблю я в этой чужой жизни, что теперь мне хочется опереться на тебя, сказать, как мне горько и жутко.
В комнате холодно, за окном мутное ночное небо над зоологическим садом. Жизнь вдали от тебя, без тебя свилась, словно серый, холодный клубок. Все лица чужие. Дома я по часам не выхожу из своей комнаты, никто ко мне не приходит, только по вечерам, уже два раза приходила мама, когда я уже лежал. Долго стояла, пе зажигая электричества, и смотрела на меня, мне казалось, плакала. Крестила и уходила.
Почему этого не было раньше? Почему раньше я мог жить два месяца вдали от тебя, а теперь каждая минута словно прожигает мне душу и давит, давит…
9-го. Утро
Только что получил твое письмо. Сумасшествие было ехать на вокзал. Ваши ефремовские доктора мало понимают — я боюсь, что у тебя не ангина. Разве бывает при ангине вдруг и такая высокая t°.
Пиши мне все, не скрывая. Если будет тяжело — я приеду. Никто не знает, как нужно беречь тебя…
Я хотел оторвать, не посылать тебе все то, что написано ночью. Но я не могу ничего скрывать. Все, что было ночью, сдуло, как ветром. Теперь мне стыдно.
Слушай, девочка. Я прочел в эту ночь твои заметки. И я поверил в бога, я узнал впервые, может быть, как много любви Он дал тебе, твое каждое слово, каждое движение — любовь. «Больше сея любви не может быть, аще кто душу свою положит за други своя…» Сразу стало спокойно и ясно. Ты поднялась до этой любви, ты осветленная, у тебя на душе должна жить в моменты самой острой боли глубокая, яркая радость. И мне, девочка, мне, вброшенному в чуждый мир, в круговорот ошибок и печали, среди холода и слепой скуки, среди провалов жгучей тоски по небывалому и прекрасному, мне с замкнутой, непонятной мне самому душой хочется принять мир, мне много еще нужно творчества над собой, чтобы подняться до слепительных граней твоей жизни. Ты тревожишься за меня. Я здоров. Поправляйся скорей. И пиши. Если девочке нельзя писать в жару, то, может быть, сестра или Людмила напишут несколько слов о ней. Плакать в жару нельзя, да и не о чем. О том, что тебя все любят, или о том, что у тебя хорошая душа? А вся внешняя жизнь не стоит одной слезинки. Полюбил я сонный Ефремов. Привет сестре, Людмиле, Елене, Агафье, всем, всем.
Только что звонила Таня. Кричит, смеется — новость, — приехала «косопузая Рязань» — Фирсов.
Пиши каждый день и не болей долго, Хатидже.
Твой Котик.
12 января 1916 г. Москва
Почему так долго нет писем? Мне все кажется, что ты в жару, в бреду и не можешь писать.
Напиши несколько слов — я жду целыми днями. Вчера (10) провел вечер у Татьяны. Маленькая седая бабушка долго говорила со мной о молодежи. Была сестренка — пустая, наивная, не в меру болтливая. «У нас в Кашире…» Была на праздники дома, ела моченые яблоки, все остальное время спала. Дело простое, — у ее отца кожевенная торговля. Я на сестренку зол за то, что она насказала разных ужасов про ангину, — последствия, рецидивы, истощение организма. Я ей не поверил.
Узнал новость. Союз предложил Болтянской представить к георгиевским медалям бывших сестер 225-го поезда Каткову и Загорскую (?). Болтянская, конечно, отказа-лась<\..>
Нина предложила мне билет на Кусевицкого. Я пошел. Я слышал Дебюсси. Ты знаешь, Хатидже, я весь дрожал, так это было красиво. Nuaqes 1 — впервые я услышал, как поют облака. Сквозь неясные голоса ночи, пенистый шорох прибоя долетала тонкая, звенящая песня облаков. Фаготы пели задушевно и нежно, как далекие ветры в корабельных снастях — вдалеке над морем медленно падали ночные золотистые дожди, словно тысячи жемчужин причудливой вязью сыпались на упругие всплески волн, сыпались и звенели, звенели… И как ночами над морем свиваются капризными узорами и вновь развиваются облака, так радостно и просто сплетали скрипки и флейты свой прихотливый напев.
Словно я видел золотящийся мир, танец ночи. Я не знаю Ван Гога, но мне кажется, его полнота — словно музыка Клода Дебюсси.
Потом Fetes 2. Это в gala 3, в приморском кабачке. Дурманящие запахи смолы, соленой влаги. Звезды за окнами, словно китайские фонари, горячие и мутные. Огни дрожат, и дико, радостно поет хмельная джига. Блеск подведенных глаз, вино, праздник дерзкой томительной страсти. Нахальные скрипки, визгливые флейты — звуки словно дробятся в хрустальных зеркалах, изломах, плоскостях, звенят, уходят вдаль, растут и падают, и рассыпаются дразнящим зыбким смехом.
Я не умею передать — меня захлестнуло образами. Я изнемог, я весь дрожал. И на душе все звенели строки забытого поэта — Райнера Рильке, «…я так дрожал… И ты пришла так пежно, и ты как раз мне снилась перед тем… И ночь была так сказочно-безбрежна, — ночь белых хризантем».
Потом Сен-Санс. — Весь первый концерт для виолончели, словно песня об одной, только одной девичьей слезе, о блестящих от слез радостных глазах. Виолончель волнующе долго рассказывала о залитых светом бульварах Парижа, о тонких вдохновенных людях, о словах, что приходят, но никогда не уйдут, о золотоволосой девушке со стройным телом, с глазами, в которых затаилась возможность утонченной, пьянящей любви. Сумрачно и нежно плакал оркестр, и снова виолончель говорила о слезах, и нельзя было понять, я не понял, почему, словно в блеске слез, грезился мне весенний Париж и тонкие лица в экстазе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: