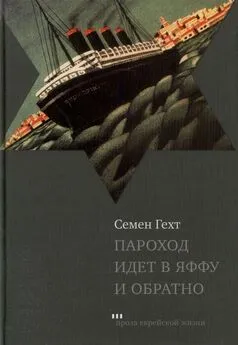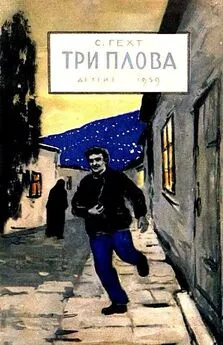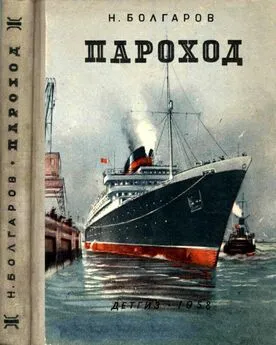Семен Гехт - Пароход идет в Яффу и обратно
- Название:Пароход идет в Яффу и обратно
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжники
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9953-0422-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Гехт - Пароход идет в Яффу и обратно краткое содержание
Пароход идет в Яффу и обратно - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Отведи его в одиночку и запри, — сказал он, — и позови следующего.
Мордвин не говорил ничего. Он только назвал своих друзей, отсчитав их по пальцам одной ладони. Потом он указал правой рукой на площадь и левой похлопал по пятке. Выждав, он потряс кулаком и опять начал загибать пальцы.
— Ладно, — сказал комендант, — отведи его, Зайцев.
Еврей вошел, робко оглядываясь, он знал о плохом отношении к нему начальства. Комендант не любил его более всех. Он наступил ему на ногу и спросил:
— Ну, что, узи? Как поживаешь, узи? Что скажешь, узи?
Еврей назвал Чухонца, и комендант успокоился.
Он не видел его горячих жестов и не слышал его колючих слов, но только спросил погодя:
— Кончил, узи? Ух ты, пейсатый-волосатый, матери твоей хрен.
Еврей опомнился только тогда, когда конвоир запер за ним третью камеру.
Чухонца и Пермяка комендант выслушивать не стал. Уставив в их лбы два нагана, он сам отвел их в камеру и повернул дважды ключ.
Все пятеро сидели в одиночных, и каждый думал с удовольствием о том, что теперь он отвечает только за себя. Тяжкая забота отлегла. Им стало совсем легко, и они начали весело перекликаться.
— Даешь! — орал Вотяк.
— Берешь! — отвечал Чухонец.
— Огребаешь! — подхватывал Пермяк.
— Не лапай — не купишь! — выкрикивал Еврей.
Мордвин пел и плакал.
Вечером того же дня их всех расстреляли на Воловьей площадке. Зайцев взвалил мокрые трупы на шарабан, покрыл брезентом и отвез в каменоломни, на свалку.
А протокол стал еще более запыленным, так как комендант сделал наискось химическим карандашом пометку «исполнено» и сдал его в архив.
1925
Гай-Макан
Я его встретил в Берлине, на Любенерштрассе, у хлебного магазина, в очереди.
— Гай-Макан, — сказал я, — какими судьбами?
Он не повернул своей чудовищной тыквы, вдавленной в плечи. Больничный, газовый свет заливал его девятипудовую тушу (теперь это было больное тело, разбухшее от водянки), его генеральские штаны и желтые башмаки с черными пуговицами.
— Гай-Макан, — вздохнул я, — где твоя папаха и где твои сапоги? И откуда у околоточного генеральские лампасы?
На голове его болтался измятый картуз. Его мясо обвисло, и его кровь помутнела. Он был жалок, несмотря на свой огромный рост. Ах, что сказали бы жители Старой Слободы, задавленные его мономаховой папахой и затоптанные его каменными сапогами?
Было дело в городе Фастове. Осенью 1918 года симпатичный городишко Фастов узнал, что такое власть. Присланный из Киева исправник, веселый и лукавый Гай-Макан, требовал к завтраку, обеду и ужину целого гуся с цивильной подливкой, со сладким соусом. Он также требовал, чтобы еврейские женщины мыли ему пол и еврейские девушки стирали ему белье. Когда у него треснул серый, из офицерского сукна, мундир, синагогальный служка обходил дома с подписным листом и кружкой.
— Пану исправнику на одежу.
Кто-то однажды щелкнул доносом в Киев на Гай-Макана. Своевольный исправник получил от австрийского начальства строгое письмо. Там были следующие слова: «Мы полагаем, что взимание налога без инструкции центральной власти является…»
Он не дочитал письма до конца, но скомкал бумагу и швырнул ее в корзину. Потом он произнес знаменитые слова, которые облетели весь уезд.
— Х-хе, — сказал Гай-Макан, — они полагают, а я располагаю.
Пятый месяц власти мадьяров был последним месяцем их власти. Они отступали в ужасе. Петлюровские полки окружали их с тылу, партизаны стреляли им в спину, и крестьяне грабили их на пути. Военное командование растерялось: в Киеве застрелился генерал Бельц.
Петлюровцы пришли вечером. Пост был слишком долог. Нужда была слишком остра. К полуночи произошел очередной погром.
Восемнадцать месяцев нескончаемых бедствий научили еврейских женщин встречать смерть спокойно, ибо смерть была неизбежна, и пугаться жизни, ибо жизнь казалась случайностью.
К погрому приготовились, как к параду. Молодухи отнесли грудных детей к старухам — когда наваливались на мать, младенца душили, чтоб не пищал. Те, что постарше, содрали чистые шелковые простыни с постелей и покрыли их грубой тканью. Они понимали, что очиститься можно всегда, ведь женщина бывает нечистой на закате каждой луны, каждые 28 дней.
Но Бейла Прицкер, единственная дочь живописца вывесок, сказала с горечью:
— Я не перенесу этого. Я хочу умереть.
И она проплакала целый день. Больной отец, разбитый параличом старик, лежал за перегородкой и ничего не слышал; на улице шел дождь, вода барабанила по жести и стеклу, он стонал, хотя никаких болей не чувствовал — было сладко стонать в такт дождю.
Казаки выжидали полуночи. Полночью темные горницы застлал покорный вой. Мрачная орава ринулась в кирпичные конуры.
Когда Омелько Пугач ворвался к Прицкер, он увидел бледную женщину, съежившуюся под одеялом, с туго забинтованным лицом и подрезанными волосами.
Омелько Пугач слыл эскадронным забиякой и прославленным головорезом. Больная женщина не смутила его. Он подплыл к кровати и шаркнул ножкой.
— Здрасте, товарищ-хозяйка, чем угощать будешь?
Бейла Прицкер прошептала больным и равнодушным голосом:
— Я больна…
Омелька свистнул:
— Это ничего, что больна. Я по реквизиции. У меня вот…
Он выловил из кобуры угловатый бельгийский браунинг и покачал его на ладони.
— Позвольте посмотреть — шпрехен-зидойтш.
Бейла Прицкер слушала, закрыв глаза. Потом она сделала усилие и выдавила из себя глухим и скучным голосом:
— Я больна сифилисом.
Казак с недоумением откатился от кровати. На минуту его глазам стало темно и рукам холодно, потом он оправился и пробурчал с досадой:
— Елки-палки, это похуже того.
Он услышал длинный, жалобный стон старика и сплюнул от огорчения. За дверью скрипнули и застонали половицы. Казак насторожил уши. Чьи-то гигантские ноги грохали чугуном и сталью. Чье-то гигантское тело наваливалось на дверь. Прошла одна минута — раздался оглушительный кашель, проржавевшие петли пронзительно взвизгнули, и дверь сорвалась, расплескивая стекольные брызги.
От крутого печного дыма, от влажного осеннего пара отделилась огромная человеческая туша.
— Пану исправнику честь и слава!
Омелько Пугач отдал почтительно честь враждебному начальству.
Гай-Макана любили все.
Из девятипудовой туши выкатился с грохотом тонкий хохоток:
— Что, забавляемся, Омелько?
Казак закусил зубами усы:
— Порчена, пан исправник.
Гай-Макан выдвинул вперед волосатое ухо.
— Порченое, говоришь? А откудова узнал?
Казак сделал брезгливое движение в сторону Бейлы:
— Забинтованная лежит. Сама упредила.
Гай-Макан хитро улыбнулся и подошел к кровати. Бейла лежала неподвижная и жалкая. Из клочьев ваты и марли выглядывали два черных глаза, два больших, лошадиных, нищенских глаза. От губ по бинту волнистыми струйками текла кровь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: