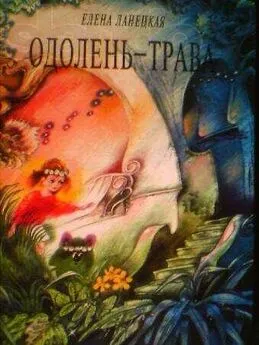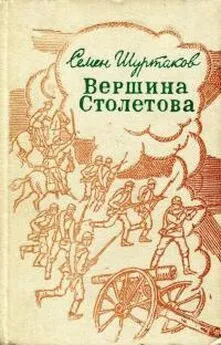Семён Шуртаков - Одолень-трава
- Название:Одолень-трава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00394-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семён Шуртаков - Одолень-трава краткое содержание
Герои романа — наши современники. Их нравственные искания, обретения и потери, их размышления об исторической памяти народа и его национальных истоках, о духовном наследии прошлого и неразрывной связи времен составляют сюжетную и идейную основу произведения.
Одолень-трава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Очень и очень непростое дело: понимать друг друга. Но и как велика радость, когда тебя понимают!
Маша и вчера и сегодня утром п о н я л а его. И за это он ей — что бы потом ни было — всю жизнь будет благодарен.
Солнце начало клониться к закату. Его лучи теперь лежали горизонтально — точно золотые нити тянулись по лесу от дерева к дереву. И глядя на них, думалось: вот-вот ударит невидимый смычок по этим нитям-струнам и зазвучит в вечернем лесу волшебная музыка…
Они собрали остатки трапезы, увязали этюдники и двинулись в обратный путь.
По-прежнему говорили мало. В словах почему-то не было большой нужды. Захотелось что-то сказать или спросить — это можно сделать и глазами. Надо только, чтобы их увидели другие глаза. Этого вполне достаточно, когда люди понимают друг друга…
Уже на подходе к станции Дементий сказал:
— Я пока еще не бывал ни в Коломенском, ни в Звенигороде, ни в Архангельском… И все равно — готов авансом согласиться с тобой: нигде нет лучше осени, чем в Абрамцеве!.. Спасибо, Маша.
Маша было вскинулась что-то ответить, но, должно быть, передумала и только посмотрела на Дементия долгим, всепонимающим взглядом.
ГЛАВА XX
«ИДУ НА ВЫ…»
В первый же день по приезде в Велико-Тырново Любомир сказал Викентию Викентьевичу:
— Я видел, с каким интересом вы разглядывали в Салониках «Диониса на пантере». А ведь у нас тоже есть кое-что в этом роде. И, может быть, даже поинтересней, позначительней… Вы что-нибудь слышали о Казанлыкской гробнице? Нет? Завтра же едем в Казанлык. Тем более что это совсем близко…
И вот они неспешно шагают тихими улицами города, по имени которого называется знаменитая Долина роз. Роз много и в самом городе — в скверах, палисадниках, клумбах посреди площадей. На деревьях догорает последняя листва, а розы как ни в чем не бывало цветут совсем по-весеннему.
Любомир рассказывает, как в сорок четвертом году — еще шла война — на северной окраине города рыли бомбоубежище и наткнулись на продолговатую каменную плиту. Рядом с ней обозначился вход в узкий коридор. Должно быть, когда-то плита закрывала этот вход, а потом то ли упала, то ли была отвалена. В дальнем конце коридора лежала еще одна плита, видимо тоже закрывавшая вход в следующее помещение. Им оказалась круглая купольная усыпальница фракийского вождя.
— Вообще-то подобных усыпальниц раскопано в Южной Европе довольно много, у вас в Причерноморье и то несколько. Но чтобы в такой сохранности — не было и нет нигде. И когда осветили то купольное помещение, то, говоря по-вашему, по-русски, ахнули, потому что увидели на его стенах… — тут Любомир сам себя остановил, сделал значительную паузу и уж потом только договорил: — То, что увидели — не буду рассказывать. Мы уже пришли, и вы сейчас сами, своими глазами все увидите…
Они остановились у подножия пологого, поросшего мелколесьем холма. Лес начинался на некотором удалении, а прямо перед ними был тот самый вход, о котором только что говорил Любомир. Справа от входа — поставленная на ребро толстая каменная плита.
Викентий Викентьевич шагнул в коридор и замер, ошеломленный. Перед ним на стене стоял воин в шлеме, со щитом в левой руке и мечом в правой. Щит он держал у груди, а меч был вскинут вверх, но не для удара, а как бы для приветствия. Мирные намерения подтверждал и широкий стремительный шаг вперед навстречу другому, точно так же шагнувшему к нему и вскинувшему меч, воину. Всего скорее это были не рядовые ратники, а вожди, военачальники, и сошлись они, может быть, для мирных переговоров. За спиной того и другого смутно проглядывали пешие и конные воины. Фрески местами потускнели, утратили четкость рисунка, яркость цвета, а местами были и вовсе испорчены смывшими краску потеками. Это и понятно: расписаны стены коридора были, надо думать, не сто и даже не двести лет назад…
Они прошли коридор до конца и вступили в купольное помещение. Викентий Викентьевич окинул его взглядом и тому, что увидели его глаза, не поверил. Не мираж ли? Не померещилась ли ему эта красота?
Помещение было довольно скромных размеров: если раскинуть руки, то немного не достанешь до стен усыпальницы, высота ее тоже была не более трех-четырех метров. Но в размерах ли дело?!
Примерно в метре от земляного пола стены были опоясаны этаким бордюром из чередующихся изображений розеток и головы быка. Бордюр этот «держал» собой многофигурную многоцветную роспись. В центре ее восседал на троне за низким столом с едой и питьем знатный муж — вождь, князь, предводитель войска. Что это не простой смертный, видно было по его вольной осанке, по тому, как он по-царски сидит на своем низком троне без спинки. Слева от вождя, в кресле с круглыми, утончающимися книзу ножками, сидела прекрасная молодая женщина, подперев печально склоненную голову рукой, поставленной на подлокотник кресла.
Как можно понять, художник изобразил погребальную тризну.
Справа от знатного фракийца идут по кругу стены — служанка с подносом, уставленным яствами, за ней — виночерпий с сосудом и кубком, за виночерпием — две флейтистки, ублажающие музыкой последние часы пребывания в этом мире своего господина.
Точно так же, слева от его супруги, изображены две служанки: первая — с ларцом и шкатулкой, вторая держит на слегка вытянутых руках что-то вроде покрывала.
И замыкают композицию с той и другой стороны пара и четверка коней.
Кони были, пожалуй, самым поразительным творением художника. Не какие-то условные, приближенно напоминающие натуры изображения. Кони были самые что ни на есть живые, взаправдашние. Два коня стояли под седлами; около них — воины в шлемах, должно быть стремянные, они словно бы ждут: вот закончится тризна и князь повелит подвести ему любимого коня…
Особенно же выразительно была написана впряженная в легкую колесницу квадрига. Изобразить четверку коней само по себе уже не просто. Как их поставить? В профиль? Но крайний конь неизбежно закроет собой остальных. Писать коней спереди, со лба? Но тогда только головы, только конские лбы и будут видны… Художник «поставил» коней столь искусно, что они все, не заслоняя друг друга, отчетливо видны. Так что уже в самом композиционном решении картины сказалось высочайшее мастерство.
Но и это было еще не самым главным, не самым удивительным. Каждый конь словно бы имел «свое лицо» и свой характер — вот что удивляло и восхищало! Один, вскинув голову, настороженно к чему-то прислушивался. Более спокойный сосед усмешливо косил глазом в его сторону, как бы говоря: чего насторожился-то?! У третьего коня в гордой посадке головы, в глазах сквозит сознание своей силы, может быть, даже некое высокомерие. Четвертый — горячий, лихой, забубенная голова, нетерпеливо бьет копытом, видно, что не нравится ему стоять на месте, хочется нестись по воле, обгоняя ветер. Парень-возничий сдерживает его горячность и не просто стоит рядом, нет, сделал широкий, как бы упреждающий шаг перед конем…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
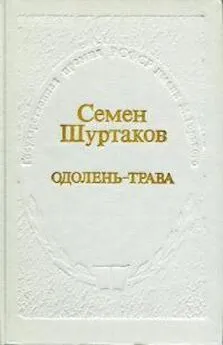

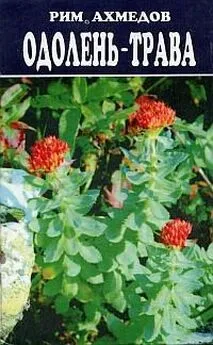
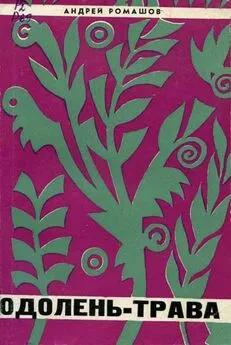
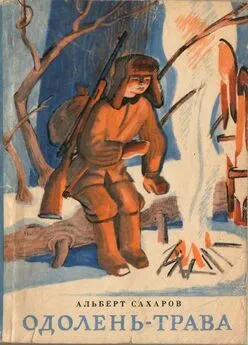

![Семён Шуртаков - Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/books/585068/semen-shurtakov-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-pove.webp)