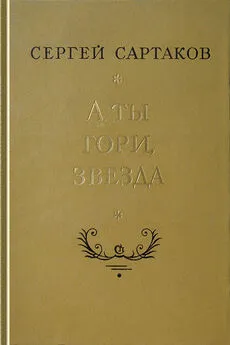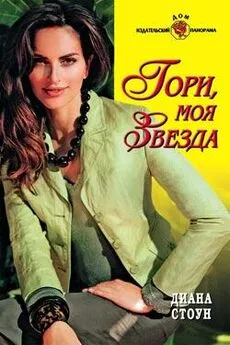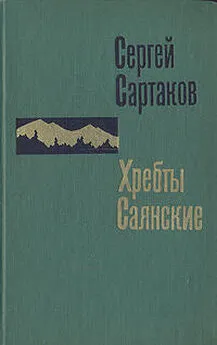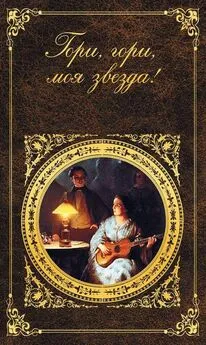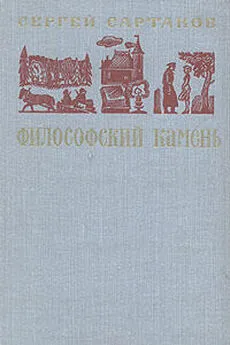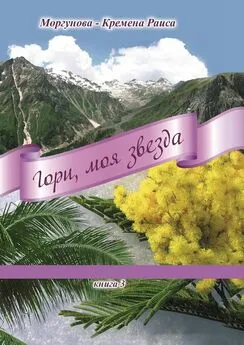Сергей Сартаков - А ты гори, звезда
- Название:А ты гори, звезда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Советский писатель»
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Сартаков - А ты гори, звезда краткое содержание
А ты гори, звезда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Стали донимать мучительные головные боли, терзала бессонница. Каждый металлический стук в тюремном коридоре отдавался в мозгу словно укол горячей иглой.
С особой силой распаляли воображение Дубровинского прочитанные им трагедии Шекспира, поэмы и стихи Байрона, Гёте, Гейне, романы Золя. В ночном одиночестве при фонаре, тускло горящем под самым потолком, черные строки книги вдруг обращались в живые образы. И тогда в каменных стенах тюремной камеры звенели скрещенные шпаги, скакали лихие всадники или скорбно тянулись длинные вереницы бледных, измученных угольщиков-шахтеров. Этак недолго заболеть и психическим расстройством. Дубровинский был наслышан о подобных историях. И потому он обязал сам себя установить строгий порядок дня: до обеда политика и наука — он очень увлекся изучением математики и немецкого языка, после обеда два часа, не больше, читать беллетристику, а потом все остальное время на переводы.
Почти совсем беспрепятственно в передачах Корнатовской и Елизаровой он получил «Происхождение брака и семьи» Карла Каутского, «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Бельтова и даже пугающего всех полицейских чинов Карла Маркса — «К критике политической экономии». Дубровинский недоумевал: что значит это? Притупление бдительности? Хитрый ход Зубатова? А может быть, просто упоение царских властей разгромом народовольцев? Марксисты, социал-демократы тоже ведь выступают против народничества. И бомбами в царей, в высших сановников не швыряют. Почему бы не сделать для них некоторое снисхождение? Ах, надолго ли!
С допросами не спешили. Дубровинский спрашивал дежурных надзирателей, вызывал помощника начальника тюрьмы. Надзиратели молча пожимали плечами, а помощник начальника тюрьмы заявил ядовито: «Всякому овощу свое время!» Но Дубровинскому очень хотелось, чтобы все завершилось — с любым исходом, как можно быстрее. Неведение мучило больше всего.
Лишь в середине января его вызвали в контору тюрьмы первый раз. Оказалось, опять-таки еще не на допрос. В особой комнате в присутствии жандармского штабс-ротмистра тюремный врач осмотрел его.
— А дальше что? — спросил Дубровинский.
— А дальше ничего. Доброго вам здоровья, — ответил врач. — Но, между прочим, всегда остерегайтесь простуды. В верхушках легких у вас небольшие хрипы.
И только лишь еще через два месяца ему объявили: «Собирайтесь! В жандармское управление. На допрос».
Дубровинский волновался. Закрытый тюремный возок, как и в тот раз, когда везли к Зубатову, подбрасывало на ухабах. Но теперь было тихо, тепло, под мартовским солнцем начинали притаивать снежные сугробы.
Сопровождающий жандарм, толстый, одутловатый, сидел рядом с Дубровинским, сладко позевывал. Он был довольно-таки словоохотлив. Из его бессвязной болтовни, прыгающей с одного предмета на другой, от цен на квашеную капусту к свадьбе дочери генерала Шрамма, — Дубровинский вдруг уловил, что последнюю неделю по Москве и вообще по России опять шли большие аресты.
— Сотнями, прямо сотнями, — говорил жандарм. — Почистили публику эту здорово.
Что-то неясное он рассказывал еще о разгроме тайной типографии на юге, где печаталась главная газета господ социал-демократов…
«Выходит, „Рабочая газета“ разгромлена? И все арестованы?» — думал Дубровинский.
Попытался задать жандарму несколько осторожных вопросов. Но тот, по-видимому, сверх коридорных разговоров в своем управлении и сам ничего не знал. А болтал потому, что молчать был просто не способен. Лишь почуяв, что арестант проявляет к этой болтовне повышенный интерес, он сразу прикусил язык.
Допрос повел жандармский ротмистр. Молодой, щеголеватый. Назвал себя: Самойленко-Манджаро. Представил товарища прокурора, который по установленному порядку обязан был присутствовать на допросах в качестве наблюдающего, хранителя законности. Фамилия товарища прокурора была Короткий. Но ростом бог его не обидел, и он сидел, неестественно откинувшись на спинку стула, иначе под столом не помещались ноги.
Самойленко-Манджаро обладал веселым, хотя и вспыльчивым характером. Легкий язвительный юморок у него частенько переходил в обидную, крикливую брань. Особенно выводило его из равновесия запирательство допрашиваемых, когда суть дела была совершенно ясна. По его мнению, во всяком случае. Год назад он вел дознание по делу «Московского рабочего союза», допрашивал Владимирского, Радина, а когда охранка раскрыла новый «Рабочий союз», явного преемника того «Союза», Самойленко-Манджаро, полагая себя великим знатоком в вопросах социал-демократического рабочего движения, сам выпросил у генерала Шрамма это «дело». Пообещал генералу, что долго возиться с эсдеками он не будет.
Однако подследственные и здесь оказались крепкими орешками. Отвечать на вопросы они не отказывались, некоторые даже с какой-то повышенной охотой рассказывали все. «Все»… Да такое, что, вдумавшись потом в сделанные записи, следователю хотелось просто начисто уничтожить протокол!
Особенно раздразнили его слушательница акушерских курсов Елизавета Федорова и слесарь Иван Романов. У обоих при обыске изъята нелегальная литература. Оба поддерживали связь с Розановым и Ульяновым. Филерские проследки устанавливают это неопровержимо. Но филерские проследки не документ, на них не положено даже устно ссылаться. И вот, пожалуйста, оба подследственные категорически заявляют: «В жизни не встречались ни с Розановым, ни с Ульяновым!»
Федорова, когда Самойленко-Манджаро предъявил ей книжку «Царь-голод», взятую при обыске, простецки улыбаясь, объяснила: «Да, точно, книжка моя. Хорошая, интересная книжка. Вы сами голод когда-нибудь испытывали?» Он сразу даже не смог рассердиться. Стал допытываться, откуда эта книжка попала к ней. Федорова с той же наивной улыбкой ответила: «Да я ведь сказала: книжка моя. Ниоткуда ко мне не попала. Моя, и все. Собственная моя. Вы читали ее? Обязательно прочитайте!» И сколько он ни бился, требуя назвать лицо, передавшее ей крамольную брошюру, Федорова, хотя и на разные лады, повторяла одно и то же: «Да как же я вам назову такое лицо, когда эта книжка собственная моя…»
А Иван Романов — семнадцатилетний — принялся обстоятельно рассказывать по порядку о своем отце, деде, прадеде, прапрадеде… Десятки раз его обрывал: тот знай все дальше лезет в глубь родословной. Да ведь, чертенок, занимательно рассказывает! Пришлось даже кое-что в протокол записать. Ну, а финал? К чему сопляк этот плел свои любопытные истории? Оказывается, чтобы в конце заявить, что через предков своих он принадлежит к царствующему дому Романовых, а потому привлекаться к полицейскому дознанию не должен… Каков гусь? Это же было черт знает что! Короткий взлетел, чуть стол не опрокинул. Кощунство, оскорбление величества! А Романову семнадцать лет, а мальчишка хлопает глазами…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: