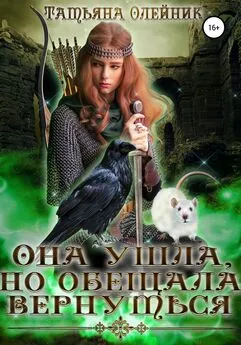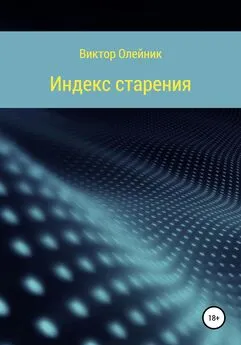Николай Олейник - Жилюки
- Название:Жилюки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Олейник - Жилюки краткое содержание
Первая книга — «Великая Глуша» знакомит с жизнью и бытом трудящихся Западной Украины в условиях буржуазной Польши.
О вероломном нападении фашистской Германии на Волынь и Полесье, о партизанской борьбе, о жителях не покорившейся врагам Великой Глуши — вторая книга трилогии «Кровь за кровь».
Роман «Суд людской» завершает рассказ о людях Полесья, возрождающих из пепла свое село.
Жилюки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Знали, какой этому ответ, откуда эта беда, а все же душе не терпелось — спрашивала, словно от этого ей становилось легче.
Однажды, когда глушане, силой поднятые управляющим и жолнерами, вышли на картошку, — в небе появились самолеты. Может, никто и не обратил бы на них внимания — летают, ну и пусть себе, наше дело земное, — но самолеты закружились над лесом, ястребами летали вдоль шоссе, время от времени выплевывали на него смертоносный свинец. Войско встревожилось. Военные, до сих пор смирно разворачивавшие заступами твердую землю, оставили прадедовское орудие и подолгу вглядывались в небо.
— А ведь на самолетах-то не звезды, — переговаривались люди.
— Да и появились они совсем с другой стороны, не с той, что нам говорили.
Всех уже мучила ужасная догадка, но никто не отваживался высказать ее вслух. Тем более что самолеты вскоре исчезли и вспугнутая вековая тишина снова вошла в берега.
— За работу! За работу! — заторопились конные надсмотрщики.
Словно ничего и не случилось. Тускло блеснули начищенные песчаником заступы, въелись в грунт, выкапывая из неглубоких его недр крупную картошку. Десятки рук потянулись, выхватывая ее из сухих стеблей… Но так только казалось. В душах людей сразу все перевернулось, пошло по-другому. Еще никто не вымолвил ужасного слова «война», никто из здешних толком ничего не знал, но все жили уже новым, неизвестным, незнакомым, которое должно было вскоре прийти. Оно казалось страшным, потому что таило еще и неизвестность.
К вечеру жолнеров срочно позвали в поместье. Вскоре они, даже не смыв с себя рабочего пота, в полной боевой выкладке выступали в путь. Вслед им грустно светились бесслезные очи матерей, чьи сыновья тоже где-то вот так выступали в ранние сумерки навстречу жестокой неизвестности.
События разворачивались быстро. Через несколько дней по мощеной дороге мимо Великой Глуши тронулись беженцы. Были это преимущественно люди именитые — должностные лица, купцы, родовитые помещики с внуками и правнуками, все, кого пугал, возможно, не столько «новый порядок», сколько возможность утратить свое имущество, веками нажитое богатство. Кто-кто, а они, деятели, сеймовцы, стоящие у руля, знали мощь и силу своего отечества, ее армии и потому не очень на них полагались. Да и какая еще могла быть надежда, на кого, когда они, хоть и не все, тоже знали наверно — не сегодня завтра власть сложит свои полномочия, министры и генералы уступят свои места тем, кто покорил уже пол-Европы. Самое разумное в таком случае — искать выход самому. А их, выходов, пока только два: или пересидеть где-нибудь в далеком родовом поместье, пока жизнь придет к какому-нибудь последнему решению, или — и это, вероятно, куда надежнее — отправиться к соседям, заблаговременно пополнив их банки своими вкладами.
Как бы там ни было, какие бы мысли ни сушили панские головы, а день ото дня беженцев на дорогах становилось все больше. На машинах и на подводах они двигались против армий, форсированным маршем перебрасываемых с востока на запад. Нередко фашистские «мессеры» поливали их свинцом заодно с военными, но они лезли, спешили куда-то на юг, к границе с Румынией.
Глушане — любопытства ради — выходили к дороге, провожали беглецов.
— Бегут паны, — подмигивали друг другу.
— А что панам? — рассуждали другие. — Панское, видите ли, всегда сверху, сели себе — и айда. Не бойтесь, не пропадут. Ворон ворону глаз не выклюет. Перебудут где-нибудь, а там снова вынырнут на нашу с вами шею.
— Эх, кабы стукнуть их! Чтоб перья посыпались.
— Э, думаешь, они так себе, без ничего едут?
— Ну и что? Разве у Гуралевых хлопцев так-таки ничего и нет?
— Да пусть себе едут, — соглашались некоторые, — пусть перед ними дорога провалится.
Возвращались домой грустные, пришибленные новой бедой. Война. От нее, проклятой, какой бы она ни была, добра не жди. Нет, не жди… И уж кому-кому, а мужику достанется. И хлебушко под метелочку, и мясцо, какое найдется, и лошаденку потянут. А там, гляди, и самого возьмут, погонят вшей кормить. Эх, будь ты все неладно… Бастовали, тягались с графом, в тюрьмах пусть не все, но все же гибли, на что-то надеялись. А теперь? Все прахом. Был один пан, придет другой, еще злее, въедливее. Вот и живи. Хоть круть-верть, хоть верть-круть… И никто тебе ни слова. То были хоть листовки, да и так наговорят всякой всячины, а теперь — словно заколдовал кто. Партизаны где-то в лесах выжидают, а тут никто тебе ни делом, ни словом не поможет.
Совинскую и ту мучила неизвестность. «Неужели настает решительный момент? — припоминала она недавний разговор с секретарем окружкома. — Почему же тогда никаких инструкций, указаний?»
А вести приходили все более тревожные: под бешеным натиском врага отступали армии; бежала власть, оставляя на произвол судьбы своих соотечественников. Край наполнял панический страх, волна которого докатилась и до Великой Глуши. Первым, кого она захватила, выкинула на свой гребень и понесла, был солтыс. Все эти дни, с тех пор как на дорогах появились беженцы, он тайком то прятал, то паковал вещи, а как-то утром Софья, проходя мимо его двора, увидела открытые ворота — чего на ее памяти еще не бывало — и свежий след колес. Учительница вошла во двор, постучала в дверь дома, но никто не откликнулся. В постерунке Хаевича тоже не было. На ее вопрос, где пан солтыс, полицейский только пожал плечами:
— Кто его знает. Может, куда уехал.
«Убежал он. Убежал, как крыса с корабля, над которым нависла беда», — хотела сказать Софья. Но промолчала. Только подумала, мысленно обращаясь к Хаевичу: «Это лучшее, что вы могли сделать, пан солтыс, — отправиться за своими панами. Попутного ветра!»
«Вероятно, пора, — соображала Софья, возвращаясь из постерунка. — Надо созвать товарищей. Время действовать… — У нее бешено билось сердце, стучало в висках. Софья ускорила шаги. — Пора… Зайду к Жилюкам. Там, наверно, Андрейка, пусть бежит к Гуралю, к Хомину…» Впрочем, идти к ним Софье не пришлось. Только она миновала площадь и повернула на улицу, как в конце села появились всадники. Их было не много — человек, наверно, восемь. Трое из них галопом помчались к центру, остальные остановились у подводы, тяжело катившейся по песчаной колее. Всадники быстро приближались. Одного из них — Ивана Хомина — Софья узнала сразу, другие, вероятно, были не здешние.
— Доброго утра, пани Софья, — громко поздоровался Хомин. — Не ждали? — Он осадил коня — тот присел на задние ноги, — соскочил. Здоровым духом лесного приволья и трав повеяло от Ивана.
— Я как раз хотела посылать за вами, — сказала Софья — Вы словно угадали…
— А тут догадки простые: увидели, что пан солтыс бежит, — и айда в село. Заодно и его прихватили.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


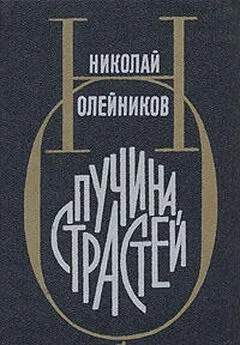
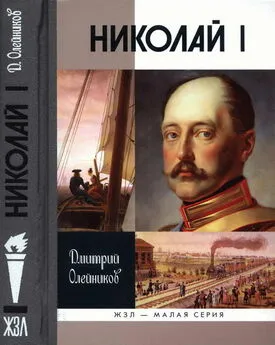

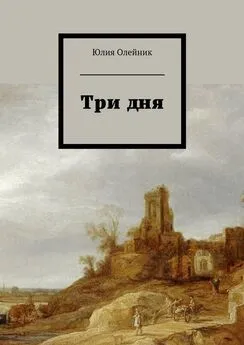
![Николай Олейников - Боевые дни [Рассказы, очерки и приключения]](/books/1099925/nikolaj-olejnikov-boevye-dni-rasskazy-ocherki-i-p.webp)