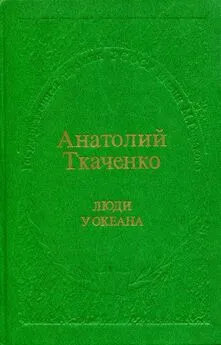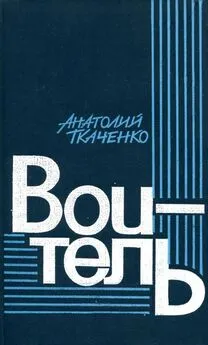Анатолий Ткаченко - Люди у океана
- Название:Люди у океана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00550-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ткаченко - Люди у океана краткое содержание
Дальний Восток, край у самого моря, не просто фон для раскрытия характеров персонажей сборника. Общение с океаном, с миром беспредельного простора, вечности накладывает особый отпечаток на души живущих здесь людей — русских, нивхов эвенков, — делает их строже и возвышеннее, а приезжих заставляет остановиться и задуматься о прожитом, о своем месте в жизни и долге.
Люди у океана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О, брызнула вода? И прямо в лицо? Это — крещение. Поздравляю! Новоявленный святой Таранайский сподобился и т. д. Отдохните, святой отец, вытрите лицо рукавом, присядьте к огоньку, я сам вычерпаю ледок, приготовлю вам персональный кладезь со святой водой, откуда вы будете выуживать рыбку, посланную нам богом.
Пожалуй, и вправду ты чувствуешь себя святым, все в тебе обновилось: всякая дрянь по́том вышла, а воздух, этот воздух, в кровь вошел. И теперь он бурлит по всему телу, будоражит, будит каждую клетку, и ты — точно бочка с вином. Притихни — услышишь, как волосы на голове растут.
Подкатывай свой чурбан, подсаживайся к лунке. Бери блесну, тихонько опускай в воду. Ты и сам знаешь — я для порядка. Начали. Подергивай плавно, но твердо. Почувствуешь толчок — тащи на весь взмах руки, чтоб не ослабла леска. Ловить будем корюшку. А там что попадется: навага, бычок, может, и щучка приблудная. И говорить будем.
Когда мы шли сюда, ты попросил: расскажи, как и когда попал на Таранайку. Я вот сейчас с тобой болтал, но все думал об этом. Когда — просто. Как — труднее. Все-таки: как? Это и мне поможет прояснить для себя то, что смутновато представляется.
Ну, чтобы попасть на Таранайку, я должен был прежде всего родиться на свет. Правильно? Значит — где, от кого? Вот так и начну, понемногу, осторожно. Может, вдвоем и разберемся в моей жизни.
Ага, у тебя клюнуло. Тащи! У меня тоже. Отлично! Две хороших корюшки — на льду. Смотри, какие они голубые и зеленые со спинки и белее снега снизу. А пахнут — свежие огурцы! Живые огурцы! Сейчас колечками застынут и поблекнут, потеряют запах. Потом, когда оттают дома, снова… Да мы и здесь разведем вокруг себя «огород», не успеет замерзнуть. Вот опять повело. Взяли. Прихлынула рыбка!
Так вот, родился я… знаешь, запахло огурцами, и в душе моей потеплело: крестьянин я. Хоть почти не пахал, не сеял, а натура осталась той же, крестьянской: какой перешла от отца, такой и осталась. Так вот, родился я в селе Волково Амурской области, по соседству с тобой — ты, кажется, из Грибского, от вас до нас всего семь километров. Наши отцы, пожалуй, не раз стаканами крестились на ярмарке в городе, может, и ближе знали друг друга. Суть не в этом. Суть в том, что они были — казаки, а мы — казачьи дети. Они пахали, сеяли, охраняли границу, а мы… ну, я тогда под стол пешком ходил, тебя и совсем на свете не было. Хорошо помню себя лет с пяти, когда из смуты и беспамятства проявился я как человек. До этого ничего не было, кроме одной вспышки памяти. Где-то в самом теле, в глубине меня остался страх, и это — жаркое солнце, степь, жажда, крики и плач. Я сидел под телегой, на одеяле (там была тень, еда в кастрюлях, фляга с водой), играл большим зеленым огурцом, ворочал флягу, а когда становилось очень скучно, длинно и нудно ревел. Приходила мать, горячая, потная, до жути огромная, припадала к фляге, и у нее гукало в горле. Она поила меня, давала чего-нибудь поесть и опять уходила с подоткнутой юбкой, раскачиваясь на коротких, исцарапанных ногах. Я принимался за огурец и флягу, плакал, тосковал и, наверно, уснул — это было уже к вечеру, потому что под телегой не было тени, — и проснулся от внезапной тревоги, дикого страха. Заорал. Но сквозь свой рев слышал топот лошадиных копыт, выстрелы, крики людей, чужой, жуткий говор. По степи проносились люди, стада коров и овец, громыхали телеги. Красно, близко и далеко, пылали выстрелы. Что-то огромное и страшное налетело на мою телегу, и я потерялся в грохоте и шуме… Дальше ничего не помню, провал на несколько лет. И только после, когда я стал уже казачонком, мог оседлать, напоить, спутать коня и дух лошажий был мне лучшим ароматом, — я рассказал матери об этом своем первом страхе в степи. Она удивилась, не поверила, спросила, от кого я узнал. Я твердил, что сам помню. Она задумалась, горько покачала головой. Потом рассердилась: наверно, ей не хотелось, чтобы я помнил это. Но все же рассказала — почувствовала, что надо рассказать. И хорошо — страх, который сидел во мне, как в звере, поубавился, стал частицей моей памяти. Все оказалось просто: на нашу деревню напали хунхузы. Пронеслись ордой по степи, отбили стадо коров, порезали овец, убили старика, взяли двух девушек. Казаки были в степи на заимках. Быстро собрались, настигли хунхузов и учинили резню, от которой вода у берега стала красной…
Почему я рассказал тебе именно это? Не знаю. Но чувствую, что отсюда я начался. От страха перед хунхузами, от ненависти к ним, от желания стать очень сильным, очень смелым. Во мне возникло ощущение границы, особое, острое — границы воды. Я до сих пор не могу представить себе Амур как просто реку. Это — полоса воды, которая рассекла не только землю, но и людей, страсти человеческие. И вообще, любая вода для меня теперь — текучесть, неустойчивость.
Конь, степь, наша заимка, погреб на заимке — в нем всегда был холодный квас, — отец, заросший щетиной, в потной рубахе навыпуск, корова с пятном на лбу, земля (то вспаханная, то засеянная) — и работа, работа с утра до ночи, в жаре, под ливнями, в холод; скачки на коне, азарт, взмахи тяжелой почти непосильной шашкой, когда срезанные прутья укорачиваются не шелохнувшись; коричневое, из жил и мускулов тело — это и есть мое детство.
Так, клюнуло. Тяни! Вполне прилично. Ты способный самоучка: не отстаешь. Штук по двадцати поймали. Смотри, какой огород развели на снегу. Не пахали, не сеяли. На уху есть, на жареху теперь… Хорошо как стало, подними голову. Белый дым над Таранайкой — это на перекатах открытая вода парит, сопки по сторонам, как дома ледяные, голые лиственницы на вершинах — будто телеантенны. А речка — улица, узкая, извилистая, как Малая Бронная в Москве. Похоже? Нет? Ладно, не спорю. Это я все воображаю, от скуки.
Так, дальше поехали. Гражданскую войну помню тоже нешибко. Как увижу настоящий ржаной хлеб, втяну его запах — деревня наша припомнится, пыль на улице, и по этой пыли красноармейцы идут длинной серой колонной, скатки за плечами, шапки острые, котелки на боку. Котелки позвякивают, и пахнет потом солдатским — он всегда тревожный, сердце у мальчишек от него пугливо и радостно прыгает. И этот хлеб — ржаной. Никогда у нас такого не было… Отец ушел. К белым или красным — не знала и мать. И после почему-то об этом не говорили. Неразбериха была — кто к кому. Теперь-то думаю, что к красным подался: его потом не тревожили. У нас во дворе красноармейцы постоем стали. Кони, сено, тачанки и просто телеги. Но все особенное — пахнет войной, бедой. Два или три командира в горнице жили, на гитаре играли, револьверы чистили. Тогда-то я и полюбил гитару, до сих пор это осталось — вот и сам играю, а потому, что тогда что-то во мне колыхнулось и не забылось. Но самая беда для меня наставала, если командиры начинали обедать. Прямо на полу усаживались, из котелков ели кашу, резали хлеб. Ржаной хлеб расстраивал мои нервы; удивительно — никогда я так ничего не хотел. Хватал за руку мать, волочился следом, просил купить, выменять, выпросить — сделать что угодно, но добыть мне ломоть черного, тяжелого хлеба. Мать выменивала на яйца, молоко, на пшеничный хлеб — две огромных булки за одну. Черный хлеб я добывал и сам во дворе у солдат, воруя для них из погреба сбитое бабкой масло. И еще гильзы — у меня их было штук двадцать. Ими солдаты награждали меня, как медалями. И была в них особенная, великая ценность: гильзы надо было нюхать. Черный хлеб, запах пороха — так и запомнилась мне гражданская война. И, наверно, из этого уже произошло чувство красивой, отчаянной тревоги, навсегда запомнились острые шлемы со звездами, лицо командира, узкое, румяное, с черными усиками и большими, как у девушки, глазами. Когда он смотрел на меня, мне хотелось вытереть нос и спрятать босые ноги. Он-то, этот командир, играл и пел под гитару. Не знаю, сам я запомнил его частушку или мать после пропела:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: