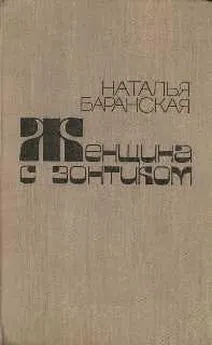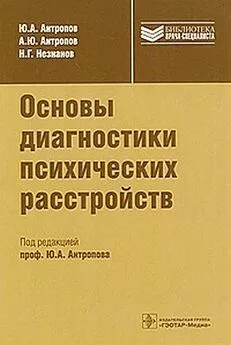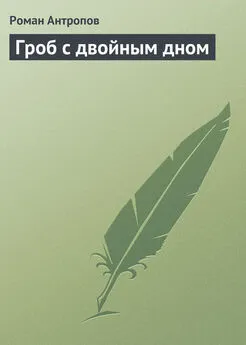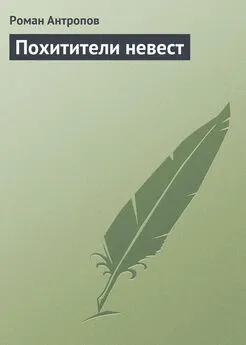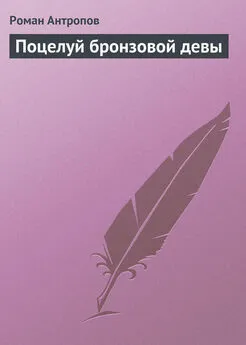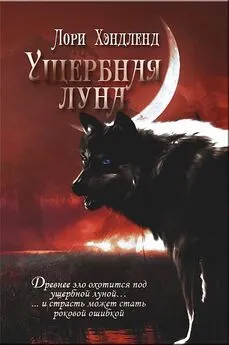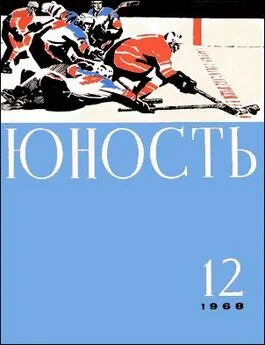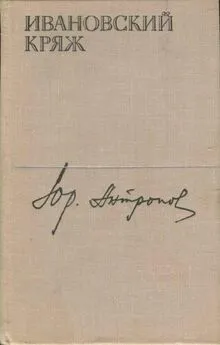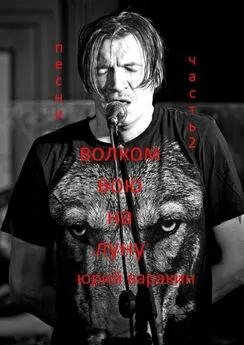Юрий Антропов - Неделя ущербной луны
- Название:Неделя ущербной луны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Антропов - Неделя ущербной луны краткое содержание
Эту книгу составляют повести и рассказы, в которых Юрий Антропов исследует духовный мир нашего современника. Он пишет о любви, о счастье, о сложном поиске человеком своего места в жизни.
Неделя ущербной луны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прошли годы, и бабушка Вера так и осталась в своем и не в своем теперь доме, и дальний родственник, которому был продан дом, давно поговаривает о возврате денег…
— Ну что же ты молчишь, Леня? — с беспокойством спрашивал отец. — Ты что же думаешь, сынок, отцу не привыкать такими делами заниматься?
Я видел, как растерян и жалок отец, как он клянет себя за это минутное откровение или, может быть, за то, что вот так нескладно все получается у него в жизни и во многом он ой как виноват сам.
— Не думал я об этом, в том-то и дело… Если бы думал, не ехал бы сюда к вам, за тридевять земель… — неопределенно высказался я. Мне было жалко отца, но я так и не смог заставить свой дурацкий характер сказать ему что-нибудь помягче, замять в конце концов этот разговор.
Теперь он долго и пристально смотрел на меня. Потупился и как бы подвел черту:
— Ну ладно. Все ясно. И об этом больше речи быть не может… — Он глянул на часы, будто торопясь куда, но что-то его удерживало: может, он ждал, что я сам предложу ему посидеть еще.
А на меня нашла эта идиотская бычливость.
— Ну, ладно, — вконец растерялся он. — Пойду, пора уж. Только посоветуй мне, сынок, бога ради, что нам со Славкой делать? Парень совсем от рук отбился. Школу дневную бросил, в вечернюю через раз ходит, на работу устроить — ума не приложу куда. Да ему ж еще и семнадцати полных нет.
Я удивился легкости, с какой отец сменил тему разговора.
— А чего он хочет сам-то, ты спрашивал когда-ни-будь? — вяло поинтересовался я, думая о другом.
— Чего он может хотеть… Заладил одно и то же: работать пойду! Ему, видишь ли, самостоятельности захотелось. В подъездах по вечерам с дружками покуривает, а как-то пришел домой пьяным. Тебе мать-то не рассказывала разве, нет?
— Да нет, не рассказывала. А почему ты думаешь, что Славке нельзя идти работать?
— Хо, работничек… Он думает, это так-то-просто — работать! Он же еще пацан совсем! Мать бы хоть пожалел. Ни стыда, ни совести… Мать же как убивается!
Я подумал о Толе. Ему и шестнадцати не было, когда он ушел из школы и устроился в парокотельню, учеником к кочегару дяде Боре Сахно, дружку отца. А там меньше ремеслу учили — больше за поллитровками посылали. Отсюда все и началось.
Я смотрел на отца и очень хотел понять: о ком же его забота? О матери или о ее любимце Славке, которого она баловала так, как нас с Толей — никто и никогда? Ах, если бы он жалел Славку!
Но нет, кажется, он жалеет только мать. Значит, за два года ничего не изменилось.
А что должно было измениться? Что же — отец должен был понять, в чем его вина перед Толей и мной, а теперь вот еще и перед Славкой?
— Ну что же ты молчишь, Леня?! — тревожно спрашивал отец.
V
Он пришел в сорок шестом, в конце лета. С Толей мы жили тогда на Алтае, у бабушек. Мне было девять, Толе — пять. Мы щеголяли в сыромятных бутылах — постолах, в телогрейке с бабушкиного плеча, в холщовых домотканых штанах и зеленых рубашках из присланного отцом военного «хаки». Сиротами нас никто не звал и не считал. «У них же батьку не убили, пока похоронки еще не было, а мать, лында, бегает за легкой жизнью где-то. Так какие ж это по нынешним временам сироты?..» Все деревенские — и детвора и взрослые — звали нас «бергалятами», вкладывая в это слово не презрительность какую-то, а беззлобно-покровительственное снисхождение. «А вы кто?» — не столько оскорбленно, сколько подавленно спрашивал я у горделивых своих сверстников-мужичков. «Мы-то? — шмыгали они носом. — Мы-то деревенские, не то что вы… Мы вообще!.. Мы вот правильно говорим: «слухай», «ись», «баско»… А ты или твой братан — «слушай», «есть», «хорошо»…» — смешно передразнивали они. Я бежал к бабушке Вере, «Тю, дурашка, — мимоходом говорила бабушка (она все делала на ходу, почти бегом, дел у нее по дому было много, и в ту пору она еще работала в колхозе, а ее старшая сестра, бабушка Арина, была полной, малоподвижной и слыла мастерицей-швеей и стряпухой, черной работой не занималась), — ты не слухай их, — говорила бабушка Вера, — побрешуть, да и перестануть! Это-ть все Куприхин Ленька затеваеть?.. Хо, нашел кого слухать!.. Да он сам-то кто и отец-то его кто — они ж сами недавно как из бергалов к нам прибились! А туда же — «деревенские»!..» А как-то позднее она все же объяснила с нотками того же неодобрения, осуждения даже: «Твой батька до войны в Риддере работал, на заводе. А там их сплошь бергалами кличуть».
Уже взрослым я узнал: бергалами называли горнозаводских рабочих. Вот и все. Соли-то в этом сравнении — «мы — деревенские, а вы — бергалы» — оказалось на пятачок, но все это очень показательно для того времени, когда из деревень в города почти не убегали и принадлежность к деревенскому сословию и молодые и старые почитали для себя за честь.
Отец пришел в августе. Я хорошо помню, что в августе, потому что бабушка Арина уже сшила мне очередную холщовую сумку для тетрадок, — значит, не сегодня-завтра идти в школу. А пока мы играли за колхозными амбарами в лапту. День был чудной какой-то — то дождь, то солнце. В такие дни в деревне говорили: «Где-то покойник». Наверно, так оно и было. Земля-то большая. И если бы добавить: «А где-то радость», — то тоже не ошибся бы. Поверье было не мудреное.
Бабушка Вера, как и всегда, появилась некстати, в разгар игры. Она остановилась у лужи и, видимо торопясь назад, дальше не пошла, а нетерпеливо поманила нас рукой издали и необычно взволнованным, почти плачущим голосом сказала:
— Леня, Толик, айдате домой, ребятки, батька ваш приехал!..
Последнее время в деревне только и было разговоров о скором приходе моего отца. Я ждал его, мне радостно было думать о чем угодно, связывая это с отцом: как мы пойдем удить хариусов, или за ягодами, или займемся чем-то по хозяйству, — все это простое, знакомое до мелочей и надоевшее мне должно было, как я думал, наполниться новым содержанием с его приходом. Я думал, что даже уроки пения полюблю, и бабушкины длинные молитвы с непонятными словами, и восемь молений в день — если этого захочет отец.
Я пытался представить, как он будет со мной разговаривать, как проведет своей большой ладонью по моей макушке. И у меня ничего не получалось, все это казалось невозможным. Его образ сложился для меня по военным фотографиям, мой взгляд упорно натыкался на казенную форму отца, на портупею с кобурой и прочее военное снаряжение. Они отделяли от меня отца, мне казалось, с каждой новой фотографией этот строгий офицер все больше и больше становится чужим, а у меня все меньше и меньше прав считать его отцом. И тогда я смотрел на единственную довоенную фотографию отца, где он был в летней рубашке со шнурочками на вороте, молодой, улыбающийся, с таким родным лицом. Мне хотелось без конца смотреть на лицо отца на этой фотографии. Мне его было жалко, как, скажем, Толика или бабушку, хотелось плакать от этой жалости, и иногда я потихоньку плакал, и в молитве, которой меня выучила бабушка, я просил бога, чтобы отца не убили и чтобы он вернулся домой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: