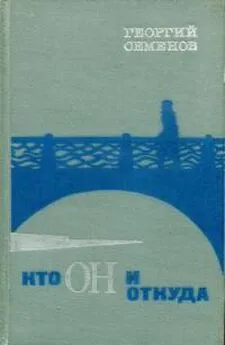Георгий Семёнов - Луна звенит
- Название:Луна звенит
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Семёнов - Луна звенит краткое содержание
Писатель поднимает в своих произведениях острые морально-этические проблемы, но рассказы его не дидактичны, не назойливо нравоучительны, главное для писателя — человеческие характеры, людские судьбы.
С. Антонов пишет: «В рассказах Георгия Семенова проходит пестрая галерея интересных персонажей — положительных и отрицательных, хороших и плохих, но тем не менее не примитивных, не плоских, а всегда сложных, требующих внимательного к себе отношения и размышления писателя».
Любовь к людям, мягкий лиризм озаряют повествование теплым светом.
Луна звенит - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В сумеречном, неуверенном свете затрубили журавли, и надсадные крики их разнеслись над болотами, как эхо, ломко замирая и с новой силой нарастая в ветреном гуле. Потом все умолкло. Стало слышно, как позади пузырилась вода, как поднимались осевшие мхи, впитывая воду.
Страха Коньков не испытывал: он хорошо знал этот путь к Кушаверо. Но всегда, уходя в пустынные мхи, испытывал он чувство одиночества и тоски, всегда будоражили его странные какие-то, навязчивые воспоминания и мысли, которые потом забывались и никогда не воскресали в памяти, как следы во мхах, темные лунки воды, тянувшиеся за ним по пятам, исчезали, разглаживались, будто никто никогда не ходил здесь, будто никто не тревожил вечную топь.
Вспоминались ему сарайчик в Калязине, крытый толем, ржавая сетка голубятни на крыше и огромные, волнистые зеркала во тьме… Куда бы ни поглядел он, всюду были отражающие его зеркала, всюду был он сам: гладкий в ту пору и глупый, неосторожный. И когда бы ни вспомнил он свой сарайчик, заставленный зеленым стеклом и готовыми зеркалами, всегда он видел свое отражение, пьяные свои, растянутые в ухмылке губы, и хотелось ему тогда сквозь годы палкой бить по всем тем зеркалам, которые смеялись ему криво, кулаком по тем довольным улыбкам, порожденным глупостью… Будь он тогда таким, как сейчас, расчетливым да осторожным…
Он, конечно, и тогда неплохо жил, в те послевоенные годы, когда люди, забывшие о себе, вспомнили вдруг, что можно подумать и о своей одежде, о своих улыбках, а может быть, и разглядеть морщинки. У него нашлись дружки, «кореши», как тогда говорилось, бывалые ребята, которых он утопил тогда, на первых допросах… Тоже по глупости. Начнись все сначала… Только об этом он боялся думать и глушил эти думы: все было отрезано. Были когда-то кореши, а теперь было страшно вспоминать о них, и был бы он счастлив, если б узнал, что погибли они или ослепли… А были когда-то кореши… Секрет изготовления зеркал достался ему легко: у него был хороший сарай, у ребятишек связи, серебро и кислота. И «вредный цех», как он называл свой сарайчик, начал давать продукцию. Трудно было с хорошим стеклом, и часто приходилось снижать цены на те трюмо, которые они готовили. Впрочем, торговать ему никогда не приходилось: этим занимались другие. А спрос на зеркала был большой — многие тогда хотели вставить в старые свои шкафы и гардеробы сияющие зеркала, хотели иметь «зеркальные шифоньеры». Это было выгодное дело! Они продавали дешевле, конечно, чем государство, и хотя зеркала их были хуже, люди покупали, проясняя свои комнаты блеском отражений, отсветом своих улыбок и глаз. Была мода на зеркала. Тогда вообще, как ему казалось, люди продавали и покупали все, что только можно было продать, все, что только было у них и чего не было. Текла у него тогда веселая жизнь, короткая, но сытная. И часто он шутил самодовольно, разливая по стаканам водку, что, дескать, нет такого вредного цеха, в котором бы не давали молока, и потому, что они тоже работали во вредном цеху, им тоже, конечно, полагалось для здоровья принимать этот продукт, но только не из-под простой коровки, а из-под бешеной, и часто соседи находили его, обезображенного водкой, «на подступах к дому», как отшучивался он потом… А люди стали приглядываться. Закрался страх. Ему бы затаиться, переждать. Но было уже поздно. И он не удивился, а только напугался, задрожал от страха, не зная досель, что можно так дрожать от страха, как он дрожал, когда за ним приехали… Он только потом уже удивлялся, что слишком долго работал их вредный цех, и проклинал себя потом, что много слишком пропил денег и ничего не скопил, не припрятал на будущее… А ведь будь он поумнее…
Его взяли первым, и он даже теперь не мог без отвращения вспоминать свой страх, животную свою тоску и плаксивое раскаяние, мольбы свои и предательство… Конечно, их взяли бы и без него, всех их уже выследили, но он их предал своим наговором… Он ничем не помог следствию, он только помог разглядеть людям самого себя, открылся перед людьми своей мелкой подлостью, и ему казалось тогда, что следователь поверит, если он будет говорить, что его чуть ли не силком затянули в это дело случайные «гады», а сам он много раз хотел бросать это вредное производство и бросил бы, если бы не угрозы… Но была очная ставка. Это было страшно. Все его расчеты, что ребятишки не узнают про его предательство, рухнули, и с тех пор, в лагере и потом на воле, на отхожих промыслах, когда он катанки валял и колодцы рыл, с тех пор он знал, что ему не простят ребятишки, которые, как он знал, не любят шутить и могут пойти на все. Он не вернулся домой. Шлялся по северу, калымил, жил, «подженившись» на время, и уходил, чтоб никогда не вернуться, и мысль окончить ветеринарное училище или какие-нибудь курсы и забиться в глухомань, осесть надолго пришла невзначай в разговоре с незнакомым человеком, который сам работал ветеринаром. Коньков с любопытством спрашивал про заработки, про житье и права, и получилось по рассказам, что жить было можно, а если пораскинуть умишком, как он сам размышлял потом, можно и вовсе не плохо устроиться… И всегда притом чистый спирт под рукой, пей не хочу. Все ему опостылело после этого разговора. Удалось окончить курсы и получить пункт.
Но все оказалось на деле иным, чем представлялось ему. И думалось порой Конькову, что сделал он в жизни еще одну глупость: выучившись на ветеринара и женившись…
А было уже поздно начинать другое, да и боялся он дум своих о возвращении в родной город, боялся прошлого, и столько он страха накопил в душе за эти годы, что чудилось ему, будто ребятки, которых он пытался завалить, до сих пор ищут его по свету, с ножами, как волки. Это был тайный страх. Никто не догадывался о нем, никто не мог понять, почему, проклиная этот край, жил он здесь как привязанный. Никто не знал, кроме, быть может, лошади, которой он в бражном умилении жаловался на свою судьбу, потому что надо было ему порой освобождаться от своего страха, выговаривать его вслух, отмахиваться от него пьяной, ухарской бранью… У лошади были умные, думающие глаза — она всегда была спокойна, и ее спокойствие вселялось тогда и в него. И не мог он теперь представить себя без этой покорно слушающей его лошади, на которой исколесил весь этот край, он привык к ней и полюбил, как когда-то любил голубей.
Ничто не связывало его с этой землей, с упрямыми ее людьми, которые рождались здесь и умирали, завещая внукам и сынам любовь к суровому краю. Они непонятны ему были, эти люди, и втайне он где-то недолюбливал их, глумился над ними за их спокойный нрав и безотчетную веру в свою землю и в ее будущее…
«В гнили этой только комарам житье, — жаловался он лошади. — Ты меня понимаешь. Их хвостом, а они тебя в глаза. Куда от них денешься! По нужде живу…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
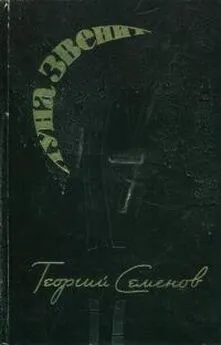

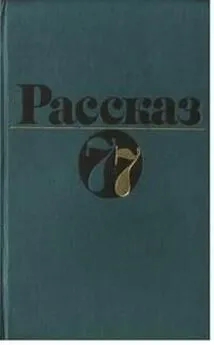

![Георгий Семёнов - Путешествие души [Журнальный вариант]](/books/598885/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia.webp)