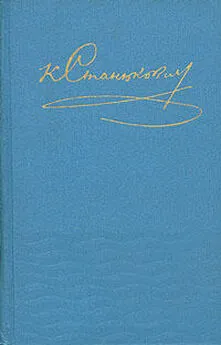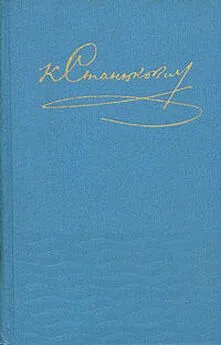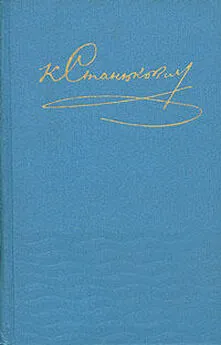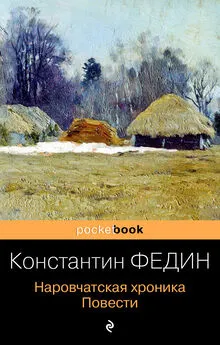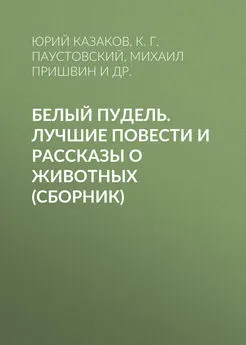Константин Федин - Повести и рассказы
- Название:Повести и рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Федин - Повести и рассказы краткое содержание
Повести и рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— И твоя печаль не укрылась от меня, Игнатий. В рассуждении о будущем, я пришел к решению не мешать тебе выбрать путь по своей воле. У тебя всегда были склонности к мирской деятельности. На нас тоже лежит грех за твою душу: посылая тебя в мир, мы обрекли ее на испытание, непосильное в твои годы. Я вижу, как ты томишься. Если есть на то твоя воля — ступай в мир с миром.
Я поклонился отцу Рафаилу в ноги. Христианская доброта этого человека источник сил моих до конца дней.
Вскоре я ходил с утешением к бывшей матушке Авдотье Ивановне. Но тут я ничего не могу записать, потому что и подходящих слов подобрать не смею.
Скажу лишь кратко, что, возвращаясь от Авдотьи Ивановны, я приостановился у дома председателя и, как прежде, посмотрел в окно. В комнате горела лампа, но занавесь не была опущена. Председатель сидел, наклонившись над столом, и рассматривал бумаги. Лицо его было худо, но в худобе своей твердо и решительно.
На этот раз я не испытал никакого страха и пошел своей дорогой, думая, что мне предстоит в дальнейшем. На душе у меня пели небесные птицы.
На будущей неделе в середу я с бывшей матушкой Авдотьей Ивановной отправляюсь к бывшему диакону Истукарию в отдел записей актов гражданского состояния.
1924–1925 гг.
Комментарий [7] Комментарий Е. Краснощековой.
Наровчатская хроника, веденная Симоновского монастыря послушником Игнатием в лето 1919-е. — Впервые — «Ковш», лит. — худож. альманах, кн. 2, Госиздат, М. — Л. 1925.
Только что завершив роман «Города и годы», Федин сообщал Горькому: «<���…> небольшую повесть уже написал, пойдет она во втором „Ковше“ „Наровчатская хроника, веденная Симоновского монастыря послушником Игнатием в лето 1919-е“. Получилось неожиданно для меня весело (хотя и грустно, конечно)» [8] «Литературное наследство», т. 70, стр. 493.
.
В основе — сызранские впечатления Федина (1919 г.). «„Наровчатская хроника“ — вымышленное название повести, не имеющее ничего реально общего с действительным заштатным городком, а теперь — селом» [9] Письмо К. Федина одной из корреспонденток. — Архив Федина.
. Известен прототип главного героя:
«Афанасий Сергеевич Пушкин действительно скончался, впрочем, естественной смертью и несколько раньше, чем в моей „Наровчатской хронике“. Это может подтвердить Алексей Н. Толстой, встречавший его на Волге, примерно в те же годы, когда, в саратовском пассаже, я впервые увидел ожившую пушкинскую шинель и высокий цилиндр» [10] «Литературная учеба», М. 1930, № 4, стр. 115.
.
Повесть, примыкая ко второму циклу рассказов, в несравненно большей степени (и тематически и стилистически) связана с первым, хотя и обнаруживает эволюцию художника, переосмысление излюбленных тем, образов. Жизнь обывателя теперь соотнесена с большими событиями бурного времени, и «человеческая стоимость» «пустырного героя» резко падает. Вторжение революции в устоявшийся быт явственно обнажает его бессмысленную игрушечность, анекдотичность, достойную сатирического осмеяния. «Хроникой» Федин прощается навсегда с пустырной темой, волновавшей его много лет.
Горький писал Федину: «„Наровчатская хроника“ <���…> очень понравилась и по языку, и по содержанию» [11] «Литературное наследство», т. 70, стр. 497.
.
― ТРАНСВААЛЬ ―
1
Солнце взошло недавно. Поднявшись над ольшаником, первый луч упал на крышу мельницы и пополз кинзу. Вдоль берегов, куда еще не проник ало солнце, пруд лежал исчерна-зеленый, и камыши на нем щетинились неподвижно. Посредине он был гладко-розов, и только круглый островок хоронил в своих ветлах холодную ночную тень.
Возле бетонного мельничного става на широком камне одиноко высился человек. Он стоял, сложив на груди руки и приподняв голову в огромной, как у ковбоя, шляпе. Вероятно, он казался себе очень высоким: поблизости ничего не было, кроме перил на ставе. Человек был недвижен, как всё вокруг в этот ранний безветренный час. Не отрываясь, он смотрел прямо перед собой, на поверхность пруда, на островок, камыши, ольшаник. По лицу его нельзя было угадать, о чем он думал. В одном его глазу, широко открытом и мертво обтянутом веками, застыло изображение островка и блекло-голубого пятнышка неба. Другой глаз — поменьше и помутней — оживлялся вздрагиванием рыжеватых реденьких ресниц. Желтые бритые щеки свисали на подбородок, и нижняя часть лица была похожа на мешочек, набитый не слишком туго мякиной.
Однако зыбкие черты одутловатого лица странно сочетались с уверенной осанкой человека. В ней было что-то отчетливое и упрямое. Человек стоял на камне с таким видом, как будто для этого требовалась громадная решимость. Он высился назло всем силам природы, он бросал им вызов. Может быть, перед его необыкновенными глазами простирались прерии, может быть, он видел себя окруженным песками Средней Африки, может быть, проще — он старался охватить воображением бесконечную череду российских полей, деревушек и хуторков. Как знать? По его лицу не угадать было, о чем он думал. Несомненно одно: он чувствовал себя в центре мира, он стоял у мельницы, около бетонного става, над прудом, и прерии, пустыни, ноля, деревни, послушные ему, как богу, безмолвно расстилались под его ногами в беспредельности.
Но, странно, в осанке человека сквозили не только вызов и решимость. В ней чудилось также нечто возвышенное, почти молитвенное. Человек растворялся в природе, сливаясь с беззвучием утра, гладью и неподвижностью воды, с застылостью дерев.
Луч солнца, осветивший мельницу, дополз наконец до человека на камне и озарил его лицо. Стало видно, что человек умилен, что он молится, что в душе он поет.
И правда. Вот дрогнул мешочек, набитый мякиной, вот отвалилась нижняя губа, раскрылся рот — и тоненький тенорок возник в тишине и постлался над поверхностью пруда. Человек, как настоящий певец, сиял с груди руки, и они непринужденно легли по швам. Тенорок понемногу крепнул, начинал дрожать, в тембре его появлялся скулящий оттенок жалобы. Напев был печально-торжествен, подобно мотиву псалмов английских исповедников света. Еще минута, и привыкшее к безмолвию ухо уловило бы раздельные слова песнопенья.
Но в это время на плотину скатилась с горы чья-то телега, громыхая и дребезжа колесами, и здоровый осипший голос испуганно провопил:
— Тлрр-ру, тр-рру, трррр, с-тои, сто-о-о!
Человек на камне вновь сложил руки на груди, плотно зажал рот и остался по-прежнему неподвижен.
На плотину выехала крестьянская телега, нагруженная мешками хлеба. Мужичонка, перебирая вожжи, враскачку шел рядом с возом. Въехав па став, он крикнул:
— Здорово, Свёкор!
Человек на камне не шевельнулся и не ответил. Мужик отвел лошадь по берегу к длинной колоде, увязшей наполовину в размятой копытами грязи, и воротился к ставу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: