Вадим Сафонов - Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести
- Название:Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Сафонов - Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести краткое содержание
Роман «Дорога на простор» — о походе в Сибирь Ермака, причисленного народной памятью к кругу былинных богатырей, о донской понизовой вольнице, пермских городках горнозаводчиков Строгановых, царстве Кучума на Иртыше. Произведение «На горах — свобода!» посвящено необычайной жизни и путешествиям «человека, знавшего все», совершившего как бы «второе открытие Америки» Александра Гумбольдта.
Книгу завершают маленькие повести — жанр, над которым последние годы работает писатель.
Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Гете давал еще понять, что впечатление, произведенное им, властелином духа, на властелина империи, способствовало тому, что Веймар оказался пощажен — изъят нз неумолимых папок Дарю, веймарцы спасены от поборов, веймарские владения не тронуты. «Господин Бог» обладал некоторой склонностью к самообольщению. Действительность грубее и проще. Карлу–Августу удалось то, что вскоре ие удастся самому Наполеону: породниться с Романовыми; он женил первенца на сестре Александра. А все затеянное в Эрфурте имело ведь главной целью обольстить русского царя.'
…Политика — вот судьба!
Из Эрфурта мне нужно было в Дрезден. По нашим русским масштабам — совсем близко: каких–нибудь два часа по автостраде; к европейским меркам дальности не сразу привыкаешь. Была весна. Старые громадные каштаны, которые точно светились от унизавших их белых свечек, скрывали отель «Асторию» — в редком городе пет своей «Астории», должно быть — отзвука остерии, придорожной таверны. Но, вторгаясь и в парковую часть, через весь Дрезден протягивались зияющие пустыри. Подобного не приходилось видеть с 1945 года. Они тянулись тогда безмерно — километры и километры мертвых развалин. Пустые, решетчатые, со следами обугленности коробки, сбритые кварталы. Одного этого ужасного зрелища испепеленного города — в давно уже мирное время! — было бы достаточно, чтобы возненавидеть чудовище войны и навсегда проклясть его.
Передавали предсмертные слова Гергарта Гауптмана: «Тот, у кого нет больше слез, снова заплачет, видя гибель Дрездена».
Но город жил. Говорили о приливе населения, о спешном строительстве, о кропотливой отстройке Цвингера. И бродя по залам Дрезденской галереи, я невольно отмечал, как несуетливо, со спокойной обдуманностью развешаны знакомые полотна — никакой, к сожалению, тоже хорошо знакомой, многоэтажной тесноты, и мельтешенья, стой, ничем не отвлекаясь, перед Сикстинской мадонной в ее отдельной келье, как стаивали тут же Белинский и _ Достоевский.
Новые дома возникали блоками, целыми улицами. Газеты оповещали о гребных соревнованиях на Эльбе. Несколько раз в течение суток в районы у заводов электромоторов, трансформаторов, рентгеновской аппаратуры выплескивались рабочие смены. Дети становились юношами и девушками — мне показывали круто восходящую кривую бракосочетаний. Собиралось общество аквариумистов. И молодой художник в этом городе искусств бурно облиг чал посреди пустошей и пепелищ язву урбанизма с грядущими «агломерациями» на десятки миллионов жителей каждая, внушая мне свою теорию города оптимальных размеров: отлично было Бетховену, заложив руки за спину, отправляться на послеобеденную прогулку из тогдашней Вены ins Grüne — на природу.
А надо всем витал тот каменноугольный, смолисто–битумный, чем–то похожий на вокзальный запах, происходящий, кажется, от топки брикетами, который сопровождает повсюду в немецких городах, ^слышишь его и в Праге, — серьезный, деловитый запах, в моем представленип сросшийся с деловитым же сокращением «Митропа» — Средняя Европа.
Но здесь вплетался в него еще и иной — сильный и свежий, влажный, с горчинкой, как от вишневой косточки. Гигантские травы вымахивали между рухнувшими камнями. Из окон барочного фасада или ротонды рококо с затейливой лепкой и сплющенной спиральной лестницей внутри выпирали ветви высоко разросшихся деревьев, приводя на память прихотливые руины в старинных садах, доставлявшие нашим предкам меланхолическое и чуточку извращенное удовольствие.
Странно и противоречиво устроен человек! Я сказал: пахнуло сорок пятым. Там была моя молодость. Такая радость и надежда, каких не забыть тебе. Тебе и всем, кто пережил тот год. С неслыханной яркостью виделось тогда все вокруг. Что пелось — лучше тех песен не споешь. Кого любил — большей любовью не полюбить… И что ни напишешь, ни расскажешь о годе Победы, все будет бесконечно меньше того, что должен рассказать и написать.
И вот в чужом, разрушенном городе, может быть, приумолкшее в тебе, слегка, может быть, подернутое пеплом, — потому что такова жизнь, — снова очнулось, нахлынуло с пронзительной, щемящей силой. Воскресли отзву–чавшне голоса. Настойчиво подступили ожившие образы близких, а после отошедших — или ты отошел от них: теперь–то ты знаешь, что никого не встретил на жизненном пути дороже их…
Такой выдался вечерок в «Астории», гостинице за каштанами, убранными белыми свечками, в городе, о чьей грозной участи ты слышишь теперь столько рассказов.
…Город спал. Война решена, он практически беззащитен. Не крепость, не стратегический пункт. Американские самолеты вместе с английскими с воющим гудением заходили последовательными волнами. Они выжигали планомерно сектор за сектором, квадрат за квадратом, расчертив их на карте, — все, кроме разорванного кольца окраин. Зачем? Войска Первого Украинского фронта уже вступили в Силезию, уже двигались но Германии!.. Так зачем же?!
Люди, не убитые во сне, не сожженные заживо, не задохнувшиеся в дыму, кинулись, обезумев, полураздетые, — а была мозглая, черная февральская тьма, — в пустынные дрезденские парки: там нечего бомбить. Самолеты опустились до верхушек деревьев — расстреляли из пулеметов, накрыли бомбовыми залпами. Никто не сочтет жертв: сто тысяч? Или, утверждали, больше, гораздо больше? Сто тысяч мертвецов, трупов, скелетов — сколькие, возможно, оставались лежать, когда я был в Дрездене, под неразо бранными еще тогда живописными развалинами.
…Отошла зима — последняя военная! — наступила, расцвела вот такая же весна, когда перед нашей армией — освободительницей показался на горизонте Дрезден. Сотни рук, как по команде, потянулись к биноклям — поскорее разглядеть его зубчатый силуэт. Дохнул теплый ветерок — и что это? Оттуда, от горизонта обдал людей трупный смрад.
Это рассказал мне Борис Николаевич Полевой, шедший с передовыми частями.
И я подумал, что к Хиросиме и Нагасаки следовало бы прибавить Дрезден.
Имя и судьбу города, одного из прекраснейших в Европе, «немецкой Флоренции», растерзанного не по военной нужде, а по расчету бесчеловечной политики.
НЕВЕДОМАЯ ФРЕСКА
— Вон какая келья! — сказал Чуклии.
— Не представляли себе? — Сумская вспыхнула. Она хлопотала суетливо, порывисто, неумело, освобождала вешалку, стол, почему–то бегом перенося по одной вещи через комнату, высокая, длинноногая, худоватая.
— Вот, значит, ваша келья, — опять усмехнулся Чуклин.
— Замерзли, Матвей Степанович? На ночь обещали градусов двадцать… Что же я — чаю? Да, видите, условия… Я так рада, что вы приехали, Матвей Степанович!
— Поневоле приедешь после вашего сообщения. — Он все усмехался. — И не до чаев, Елена Ивановна. Напился на вокзале…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
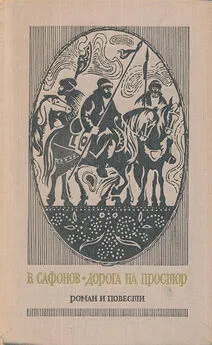



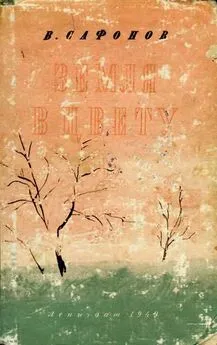
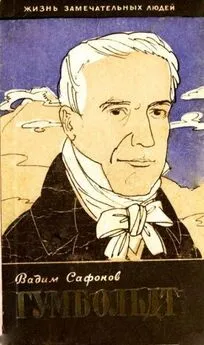
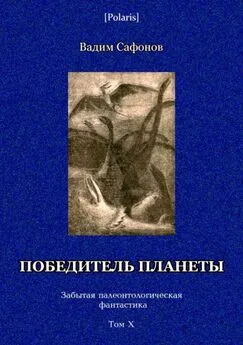

![Андреа Вульф - Открытие природы [Путешествия Александра фон Гумбольдта]](/books/1072978/andrea-vulf-otkrytie-prirody-puteshestviya-aleksan.webp)
