Вадим Сафонов - Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести
- Название:Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1974
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Сафонов - Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести краткое содержание
Роман «Дорога на простор» — о походе в Сибирь Ермака, причисленного народной памятью к кругу былинных богатырей, о донской понизовой вольнице, пермских городках горнозаводчиков Строгановых, царстве Кучума на Иртыше. Произведение «На горах — свобода!» посвящено необычайной жизни и путешествиям «человека, знавшего все», совершившего как бы «второе открытие Америки» Александра Гумбольдта.
Книгу завершают маленькие повести — жанр, над которым последние годы работает писатель.
Дорога на простор. Роман. На горах — свобода. Жизнь и путешествия Александра Гумбольдта. — Маленькие повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но гул и гомон голосов перебили его, и вестник отворотился, вытер пот со лба.
— А еще что скажу, то одному Чернявому, — добавил он негромко, устало. — Хлебушка, казаки, кто подаст?
— Эге, хлебушка! Вот и ждем — привезут.
— А чего же не везут?
— А бес их знай! Может, гневятся.
— На Руси боярство дюже гневливое.
— Атаманы, может, самому не потрафили.
— Самому–то?
— Руки, вишь, до всего дотянуть захотел.
— Небывалое дело!
И пропищало с земли:
— Ты по пылу, по шану [2] Шан — пыль (погайск.).
на шляху погадай, отчего не везут. А то пам далеко, отсюда не видать. И горы нет, чтобы взойти да прямо в Москву глянуть; место у пас ровное, степь кругом.
И толстый казак в одном сапоге стал подниматься, стаскивая шайку с кистью, и, когда поднялся, своей огромной круглой головой, которой сближенные глаза придавали диковинно–птичье выражение, пришелся почти вровень со всадником. Подал ему шапку:
— К башке нриторочь — в чурек спекешься!..
Всадник поглядел на шапку и на хозяина ее и только сплюнул: бывает же на белом свете этакое диво!..
4
Мальчики пробирались прямиком, через камышовые плетни, ограждавшие курени домовитых казаков. Ощущение голода, который нельзя насытить рыбой и съедобными корнями, — особенного голода: тоски по хлебу, по раскатанной твердой с пыльно–мучным запахом лепешке, по крошеву в воде, по хрустящей на зубах корке, — не покидало их.
Дважды взошло солнце с тех пор, как у Гаврюхи во рту побывал землисто–черный, свалявшийся, как седельная кожа, кусок, который отломила мать от лепешки, спрятанной в золе. Но подводная охота, о которой напоминал перекинутый через плечо сом, потряхивая головой и хвостом при ходьбе, свежесть глубокой воды, оставившая сладкий холодок между лопатками, и теперь ожидание того нового, небывалого, что (Гаврюха уверен был) сделает нынешний день не похожим на все прежние дни его жизни, наполняли его ликованием.
В куренях людно; говор, ржание, звяканье оружия раздавались оттуда. Курился кизячный дым, женщины хлопотали в хатах с растворенными дверями и возле очагов, из грубых камней сложенных посередь дворов. Невольники–ясыри охаживали запаленных лошадей.
Всю станицу знал Гаврюха как свою ладонь, каждый куст татарника рос, знакомый ему. Но вот эти двое — кто же они? А сидели они по–домашнему, в исподнем, с непокрытыми головами среди подсолнухов, неподалеку от пчелиных колод нырковского куреня. Лица у обоих были изборождены глубокими, почерневшими от долгих прожитых годов морщинами…
Несколько поколений родилось, оженилось, да и отошло с тех пор, как молодыми казаками уехали они с Дону. А теперь вернулись оба — один с западного, другой с восточного поля, — вернулись на Дон, и мало кто узнал их… Да и они мало кого узнали, кроме друг друга.
Один говорил:
— А медом я и сыт. Бабоньке толкую Антипки–внучка: «Ты б чуреков альбо чебуреков напекла». А она, бабонька Антипки–внучка, не слушает ни в какую: турмен [3] Турмен — мельница (татарок.).
, бает, сломался, а скрыни зайцы прогрызли. Так я давай того меду — и ополдень, и в вечер, и с третьими петухами. А проснулся: что–то мухи пуп весь засидели? Колупнул — мед!
Другой отвечал:
— Меня ж, сват, так рыбой отпотчевали, что заместо людей все чебаков да суду [4] Чебак — лещ, карп; суда — судак.
вижу. И на тебя, сватушка, погляжу — гуторишь, а ровно рыба хвостом махает.
— А привезут же!
— Привезут. А как же!
— Казачий корень не выморишь. Кто не даст Дону, к тому мы, Дон, сами пожалуем, приберем!
— И на пашу, и на крымцев с янычарами укорот найдем.
— От века непокорим Дон–река.
— И до века непокорим!
Радуясь единомыслию, старики вместе крякнули.
Тут рыба сом встала на хвост над стенкой меж подсолнухов и, разиня рот, трижды поклонилась.
Схватив палку с крючком, побежал к стенке старик, окормленный рыбой.
— Шайтан, нечистый дух!
Мальчики улепетывали за угол.
Шумел и шумел майдан, хоть не видно было уже лихого вестника.
Врозь пошли и зашатались казачьи мысли, как челны без руля, затомились души, смущенные грянувшей с юга бедой и непонятным безмолвием севера…
— Что делать будем?
— Свинца, пороху нет. Камчой обуха не перешибить…
Мелколицый парень шепеляво выкрикнул, будто хотел достать голосом на тот берег реки:
— Етпеку с вешней воды не ашали! [5] То есть хлеба не ели (искаж. татарок.).
Грузный казак с птичьими глазами сидел уже бос, без кафтана; но шелковый кушак все еще опоясывал его. Никто больше не хотел играть с исполином, и он сам для себя бросал кости, внимательно следил, как они ло жились, кивал головой без шапки, цокал языком и все рассказывал, не заботясь о том, слушают его или пет:
— Пульнет, а я под чепь… Ты слушай, братику. А я под чепь, а я под чепь. Так и пробег весь бом у Азове. А после — к паше в сарай. Караул мне что? Я их–как козявок. Яхонтов да сердоликов в шапку, а тютюну в ко шель. А на женках пашиных халатики поджег. То они и светили мне на возвратный путь.
Кинул опять и, пока катились кости, ласково приговаривал:
— Бердышечки, кистенечки, порох–зелье — веселье…
Сивобородый казак Котин, глядя на нестерпимый блеск реки, тихо говорил трем казакам, сидевшим подгорюнившись — кто обхватив руками колени, кто щеку подперев ладонью:
— А хлебушко — он простор любит, в дождь растет, подымается, колос к колоску, зраком не окинешь, в вёдро наливает зерно…
Мелколицый шепелявый парень Селиверст улегся рядом — бритым затылком на землю, выцветшими глазами уставясь в небо. Будто ужалили его слова Котина.
— Не шути, шут! Соху на Дон зовешь? — Вышло у него не «зовешь», а «жовешь». — Тля боярская, не казак!
Вдруг странно стих конец майдана. Что–то двигалось там в молчаливом кольце народа. Женщина, верхом на коне, медленно волочила голяка; он силился приподняться, жирный, белый, и валился на живот, сопротивляясь волокущему его аркану змеиными движениями всего тела.
Сдвинув брови, женщина направила коня к есаулову куреню. Она подала есаулу кусок бумаги, исписанный арабскими буквами, и чугунок.
Вот так Махотка, вдова безмужняя! Муж, все знали, кинул ее, ушел на восток, жил с рыбачкой на Волге и сгинул. Цокнул языком, головой покрутил отчаянный игрок и, забыв про кости, встал, вытянулся во весь свой немыслимый рост — чудо–казак. Баба, черная, здоровая, ничего, что худая в грудях. Ай да баба!
Гаврюха же перебросил товарищу рыбу, быстро шепнул:
— Подержи. Матка–то!.. — И шмыгнул в кольцо народа.
Уже слово «измена» прокатилось по майдану. Было оно как искра и иорохе. Голый, в кровоподтеках, Савр Оспа валялся в ныли. Но кто писал, кто мог написать ему турецкое письмо для Касима–паши? Измена в станице!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
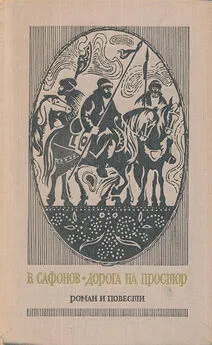



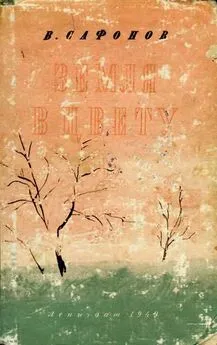
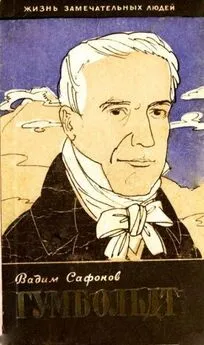
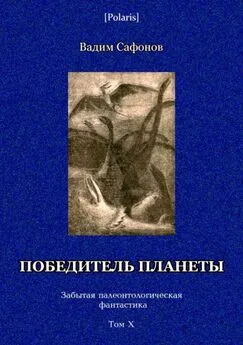

![Андреа Вульф - Открытие природы [Путешествия Александра фон Гумбольдта]](/books/1072978/andrea-vulf-otkrytie-prirody-puteshestviya-aleksan.webp)
