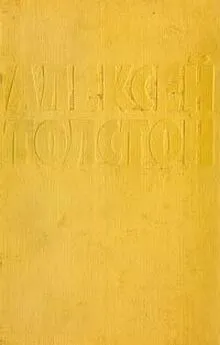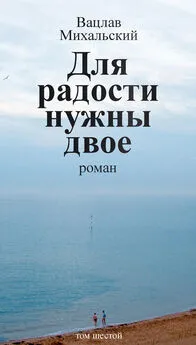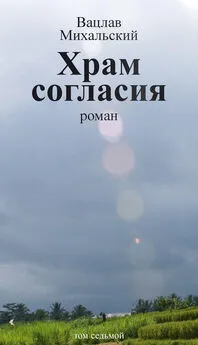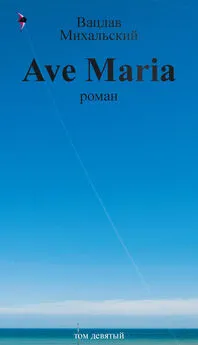Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 6
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том 6
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Художественной Литературы
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 6 краткое содержание
Собрание сочинений в десяти томах. Том 6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начало третьего варианта стилистически чрезвычайно усложнено. «Вздохи отчаяния, скрежет бессильной ярости, бешеные крики, задушенные каиновой рукой, — все, все, что вырвал из груди униженных и растоптанных поколений великодержавный город — за двести лет — если бы записать на какую-нибудь пластинку, величиной бы с лунный диск, да завести ее где-нибудь в центре Петрограда, чтобы черный рупор заревел, как метель, над снежными крышами, над пустынными улицами, над золочеными шпилями, пронзающими ночной сумрак, отдался бы эхом от бледнеющих в лунном свету колоннад, — вот бы дьявольская получилась музыка!
Под такой бы марш поднять с кладбищ безвестных строителей великого города, — все впряженные в ярмо горбатые поколения, всех нерасцветших, не узнавших радости, всех замученных ва строптивость, — пронестись бы им метелью мимо тысяч и тысяч плотно занавешенных окон, грозя и стуча ледяными пальцами саботажникам и ненавистникам, чтобы — не смели — не мешали они совершаться великому делу, затеянному в этом городе… Не махали бы с крыш рукавами — за море, зовя заморских богатырей — спасать их от революции, не шептались бы о том, как вернее — коварством, саботажем или каленым ножом — погубить новорожденного младенца, завернутого в лохмотья.
Две недели выла и бушевала снежная метель, и затихла. Над Петроградом светил высоко взобравшийся месяц из ледяной январской мглы» (Архив А. Н. Толстого).
Начиная с этого абзаца третий вариант повести, в котором писатель показывает разные группы врагов революции в январскую ночь 1918 года, близок к окончательному тексту. Исключена лишь сцена между неким князем Тарутиным, собирающимся бежать за границу, и спекулянтом—скупщиком имущества будущих эмигрантов.
Четвертый вариант повести, который правильнее назвать редакцией третьего варианта, стал окончательным.
Толстой, выступая 5 апреля 1936 года на дискуссии по вопросам формализма, рассказал о начале своей работы над «Обороной Царицына»: «Выводить живущих людей, выводить одним из героев В. И. Ленина — это налагает большую ответственность. Я три раза приступал к этой повести, три раза ее начинал, покуда вообще не махнул рукой на все формальные подходы, а просто начал изучать психологию и характер людей того времени, в первую очередь Ленина. И передо мной раскрылась совершенно замечательная картина» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 380–381).
Повесть «Оборона Царицына», сочетавшую документальность и публицистику с художественным вымыслом, исторические фигуры с вымышленными персонажами, до предела насыщенную документальным материалом, с сюжетом, жестко ограниченным историческими событиями, — это произведение А. Толстой рассматривал как трудный творческий эксперимент. В многочисленных высказываниях о работе над повестью автор не раз подчеркивал такую мысль: «…Я делаю работу сверхтрудную, — говорил он, — на которой, конечно, можно сорваться. Но, по-моему, задача писателя — идти по самому трудному пути» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13. стр. 381).
И много лет спустя после окончания «Хлеба» А. Толстой, в ответ на критические замечания, писал в автобиографии: «Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправдание могу сказать одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением, — бездерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Петр», может быть, даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира» (см. наст, изд., том 1, стр. 61).
Над повестью А. Толстой работал с перерывами, вызванными поездками на международные конгрессы, в течение двух лет. Все это время, особенно в конце 1935 и начале 1936 года, к писателю продолжали поступать материалы из редакции «История гражданской войны в СССР». Но теперь, когда уже четко определилась задача произведения, тема, сюжетная канва и герои, — инициатива в подборе материала стала исходить не от редакции, а от писателя. Он запрашивает фактические данные о мирных переговорах с немцами в Брест-Литовске, о разногласиях в ЦК по вопросу мирного договора, о плане обороны Царицына, сведения о Локотоше (в «Хлебе» Лукаш), Н. А. Рудневе, А. Я. Пархоменко, А. Б. Тровянове (в «Хлебе» Аникей Борисович), С. К. Минине.
Летом 1936 года писатель поехал в Сталинград познакомиться с историческими местами города и его окрестностей. С бывшим партизаном казаком П. С. Куркиным А. Толстой ездил в Нижне-Чирский район, к Рычковскому мосту, разрушенному белыми и восстановленному армией Ворошилова.
Повесть была закончена 16 октября 1937 года. (Авторская датировка рукописи.) Название «Хлеб» появилось за полгода до окончания повести. Изменение заглавия, естественно, вытекало из того, что о самой обороне Царицына сказано относительно мало. Повесть заканчивается первым наступлением на город белых. Центр тяжести перенесен на вопрос снабжения молодой советской республики хлебом. Это определило новое заглавие, старое ушло в подзаголовок.
Хотя уже во втором варианте жанр «Обороны Царицына» писатель определил как повесть, в его высказываниях до сдачи в издательство это произведение чаще называется романом.
«Сейчас я закончил роман «Хлеб», — писал А. Толстой Ромен Роллану и одним абзацем из произведения раскрывал его основную идею. — Тема романа в строках: «Вместо хлеба, дров для печки и теплой одежды, нужных сейчас, немедленно, — революция предлагала мировые сокровища, революция требовала от пролетариата, взявшего всю тяжесть власти, всю ответственность диктатуры, — усилий, казалось, сверхчеловеческих. И это, и только это, спасло революцию: величие ее задач и суровость ее морального поведения» («Ленинградская правда» 1937, 4 ноября).
«Свое новое произведение, — говорил А. Толстой на другой день после окончания повести, — я посвящаю моей родине. Я посвящаю его великим вождям пролетарской революции и безыменным красноармейцам, рабочим и крестьянам, кто, не щадя себя, создал мировое величие нашему отечеству» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 540).
В критике второй половины 30-х годов «Хлеб» получил высокую оценку, но уже тогда указывалось на необычные для художественной манеры А. Толстого формы повести, на не всегда удавшееся автору претворение исторической хроники в ткань художественного произведения. Во многом здесь сказались сдерживающие писательский вымысел требования редакции «Истории гражданской войны в СССР» документальной точности в обрисовке событий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: