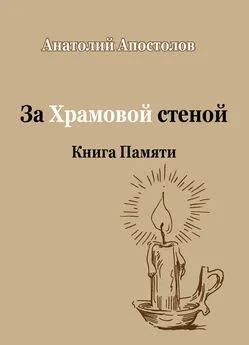Анатолий Землянский - Пульс памяти
- Название:Пульс памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Землянский - Пульс памяти краткое содержание
Роман «Пульс памяти» построен на своеобразном временном сопоставлении, когда за двое суток пути к могиле, где похоронен погибший в войну солдат, память его сына, ищущего эту могилу, проходит нелегкими дорогами десятилетий, дорогой всей жизни, прослеживая многие и разные человеческие судьбы. Впервые роман был издан «Советским писателем» в 1973 году.
Пульс памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Милая… успокойтесь…
Женщина набежала на него, как на незамеченную преграду, и дико, пронзительно вскрикнула. А мужчина уже обнял ее за плечи, сдерживая и уговаривая, и пытался увести с собой… Но женщина с новым громким криком рванулась из его рук, тут же остановилась на миг, погрозила перед собой кому-то невидимому пальцем и опять заметалась у гуттаперчевой куклы.
И говорила, говорила…
Но слов я уже не слышал, длинные гудки паровоза сзывали нас, трудфронтовцев, покинувших (таким был приказ) свои вагоны с началом бомбардировки станции.
Я побежал к путям напрямик, узнавая и не узнавая окружающее. Повсюду блестело битое и обгоревшее стекло, валялись куски оконных рам, черепица, покореженные доски и балки… То там, то здесь, как свежие братские захоронения, возвышались нагромождения развалин.
А по другую сторону путей что-то догорало. Над крышами строений лениво стлался реденький дымок, едва прикрывая собой острый гребень верха водокачки, которую почти надвое раскололо при бомбежке.
…Едва починили путь — эшелон тронулся.
И — еще пять дней дороги.
Все на запад. В сторону Смоленска.
Был потерян счет бомбежкам, и было потеряно представление (совсем еще начальное, юношеское) о разумном.
Теперь я возвращаюсь в ту пору и (именно в тот день) как к некоей суровой грани, за которой, вернее, после которой начиналось что-то совсем новое для меня. Что-то идущее не просто от повзросления и возмужания, а как бы от резких — от непредвиденно резких — смещений в самом, представлении о жизни.
Жестокость и жестокость…
Эти ранние «душевные ожоги» — они были и ранним же (только скорее интуитивным, чем сознательным) приобщением к стихийно складывавшейся философии добра и зла. И к убеждению, что эти два начала не просто противоположны между собой, но что одно из них олицетворяет в человеке высшую суть его, а второе — лишь глубинно далекое прошлое, то есть первобытное. И что, следовательно, они, эти начала, не могут прививаться на одной и той же почве — вместе. Независимо от того, что́ служит этой «почвой»: душа одного человека или нравственность целого народа.
Так — и именно от той грани, от того пожизненно памятного дня — начиналось (пускай, повторяю, лишь интуитивно) мое приобщение к поискам истины.
А значит — и к умственным переоценкам.
От книжного толкования таких понятий, как цивилизация, гуманизм, прогресс, оставалось во мне все меньше и меньше, я как бы переходил в новое качество своих взаимоотношений с прошлым и настоящим.
Что же касается будущего…
С ним обстояло иначе.
С грядущим никто не может быть один на один.
Даже великие мира!
Тем более в войну, когда все формулы бытия сводятся, в сущности, к одному: сегодня ты есть, а завтра тебя уже нет.
С грядущим диалоги и споры ведут народы…
Нашим будущим, если забегать вперед, была, как известно, Победа.
Смертно трудным будущим была она.
Но — была!
7
Летние ночи короткие, но отцу они казались безрассудно и тягостно длинными. И он часто вставал по ночам, выходил во двор, притулялся к крыльцу плечом и подолгу стоял в таком положении молча, отрешенный от всего, кроме своих дум.
А они роились, роились…
Отцу казалось странным и несправедливым, что на земле, одинаково дорогой для каждого, кто ее любит, да как раз в лихую-то пору, все поставлено так нерачительно. Отчего это одни, любящие свою землю, сразу же захватываются круговоротной силой войны, а другие невольно, даже против своего желания, остаются в стороне? И ждут да ждут (слово-то какое вялое, не ратное!) своего часа…
А надо бы, казалось отцу, чтобы все разом, все до единого, наваливались, коли уж сызнова сунулась чужая морда, и без сна да без роздыху били и били.
Да так, чтобы и мышиная норка в настывшем поле не была безопасна для ворога.
Чтобы каждый кустик и каждый пень лесной, и мшаник болотный, и заборная щель, и окно — чтоб все это целилось и стреляло, поджидало, выискивало и обрушивалось карающей ненавистью.
И неостановимой яростью.
Яростью огня — так огня, ножа — так ножа, гранаты — так гранаты…
Захваченный и растревоженный этими думами, отец не замечал времени, не чувствовал, как ныло плечо, которым он прислонился к острому ребру косяка, не сразу спохватывался, когда во двор и в сад по-летнему проворно прокрадывался рассвет.
Отец отчетливо видел в воображении все таким, каким оно мерещилось ему. Видел потому, что почти с отчаянной жаждой желал, чтобы все было именно так. И когда, распалив себя силой воображения, отец утрачивал на миг ощущение действительности, у него сами собой сжимались кулаки и он готов был немедленно идти, бежать, ехать… Только бы вырваться из этой несправедливой теперь тишины туда, где все — от мышиной норки до заборной щели — уже выслеживает, настигает, прицеливается, стреляет, бьет.
И тут ему отчетливо — в который уже раз — вспомнилось лицо райвоенкома: затопленные усталостью глаза, капли пота на рыжих залысинах и тяжело, переутомленно шевелящиеся губы:
— Хлеб уберите, потом суйтесь с заявлением.
Военком зло, через весь стол кидал какие-то квадратные бумаги и добавлял:
— Читай, коли такой грамотный: хлеб и хлеб! Понятно? Таково требование. Или там, — он поднимал вверх брови, — меньше нас с тобой знают?
Только это и отрезвляло, возвращало на землю и преображало картины, которые только что рисовались воображению.
«Хлеб и хлеб…»
Отец замечал наконец, что проклюнулось утро, что уже совсем светла и явственна на фоне синего неба верхушка огромного тополя по ту сторону улицы и что все чаще мелькает в окне озабоченно-тихое, бледное от бессонницы лицо жены…
«Хлеб и хлеб…»
С этим и отрывал он свое онемевшее плечо от косяка, входил в хату. Наскоро умывался, так же торопливо завтракал и отправлялся на бригадный двор, а оттуда, после «наряда», — в поле. К этому самому хлебу, который конечно же нужен войне не менее, чем солдаты.
Так заканчивались ночные бдения отца, когда, неизменно возвращаясь к одному и тому же, плыли по кругу его тревожные думы.
И ту ночь, после встречи на железнодорожном разъезде с Василием, отец тоже наполовину провел во дворе. Но теперь он уже не рисовал картины мысленно, теперь война — близкая, уже кровно осязаемая, настоящая — была заново открыта и заново понята отцом. И он не мог не верить своему открытию и тому, как уразумел его, — потому что открыл и понял эту, нынешнюю войну по взгляду родного сына.
В девятнадцать лет глазам, совсем еще юношеским, не под силу вмещать в себя столько душевного смятения, перемешанного, как это ни странно, с грустью, если они не вкусили безрассудства и жестокости, не запечатлели всесилия злости и бессилия жалости, не видели безвременно умирающих друзей. Умирающих насильственно, казненных вероломством и дикостью и, как ни трудно в это верить, по воле одного лишь человеческого безумия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/376179/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti.webp)