Геннадий Скобликов - Старослободские повести
- Название:Старослободские повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1989
- Город:Челябинск
- ISBN:5-7688-0259-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Скобликов - Старослободские повести краткое содержание
В книгу вошли получившие признание читателей повести «Варвара Петровна» и «Наша старая хата», посвященные людям русской советской деревни. Судьба женщины-труженицы, судьба отдельной крестьянской семьи и непреходящая привязанность человека к своей «малой родине», вечная любовь наша к матери и глубинные истоки творчества человека — таково основное содержание этой книги.
Название «Старослободские повести» — от названия деревни Старая Слободка — родины автора и героев его повестей.
Старослободские повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Не носи, сынок, зла в себе, — сказала она сыну. — Надо — земля-мать сама покарает, кто неправдой живет или зло творит. — Она и сама понимала явную неуместность сейчас этих своих слов: какая уж тут земля-мать! — да вот не нашлось сказать что-то другое...
— Земля-земля... Бабкины сказки!
— Может, и сказки, — согласилась она. — А бабка твоя по этим сказкам жила — и до сих пор ее люди добрым словом поминают...
IX
От дома до придворка у речки, где летом ночевало стадо, доярки шли через бригадную базу, там в конторке они хранили ведра.
Каждое утро, еще до солнца, Варвара плотно закрывала плетневую калитку своего двора, чтоб куры не выбегали на огород, и огородами, а потом ореховыми засеками шла на базу. Вот эти утренние минуты, пока она дойдет от дома до базы, — самые хорошие у нее. Она давно заметила за собой: если утром встанешь вовремя и с легкой душой, сама себе не испортишь настроение каким-нибудь пустяком, то весь день потом хорошим будет. И она шла на работу со светлой душой, радовалась большой росе, лежавшей белым налетом на кустах и траве, радовалась буйному цвету навострившегося картошника, красному рассвету, птичьему гаму. Сколько лет в один и тот же час выходила она из дома — и никогда, даже при устойчивой погоде, одно утро не походило на другое. Бывало, она не замечала этого: то ли не обращала внимания, то ли не до того ей было. А потом, когда жизнь улеглась, когда все у нее было в общем-то хорошо: и дочери все устроены, и Колюшка вырос, на свои ноги встал, и сама она, слава богу, жива-здорова, да и жить легче стало: и хлеб и копейка есть, — теперь ей спокойно смотрелось и на жизнь, и на людей, и у самой на душе вроде светлее. Да и то: что было — то прошло, а будущая старость ее не беспокоила. Дети, она знала, не обидят и не оставят ее, — а что еще ей надо? Пока силы есть, будет работать. А больше и беспокоиться ей не о чем. Колюшка в армию пойдет — она три года и одна проживет. Летом, как всегда, дочери с мужьями и детьми будут в гости приезжать, заодно помогут и сена на корову заготовить, а зимы сами по себе как-нибудь пройдут. Не она одна. Вон их, баб-одиночек, человек пятнадцать в деревне, круглый год кукушками кукуют, а к детям в город насовсем не хотят переезжать — сторожить там у них городские скворечники. А потом, когда Колюшка отслужит: как он — так и она. Захочет — пусть в колхоз возвращается, тракторист и тут всегда с хлебом и с копейкой будет, а не захочет — она его принуждать не станет, пусть живет, где ему самому приглянется. Надо будет — и она к нему может уехать, а обойдется без нее — она и в своей хате век доживет. Об этом она часто раздумывала, когда оставалась одна, и поскольку все у нее с детьми было всегда мирно и согласно, и никто из них, она знала, никогда не откажется от нее, мысли эти были приятны ей.
А потом начинался день. Тоже привычный, а в общем-то тяжелый, хлопотливый.
Самой тяжелой была утренняя дойка. В тесном придворке, хотя и устроили его на сухом месте, три сотни коров поразмесили такую грязь, что без резиновых сапог и войти туда нельзя было, а сами коровы, лежа ночью в грязи, так уделывались, что и полведра воды не хватит на каждую, чтоб как положено обмыть ей вымя.
И каждое утро повторялось одно и то же. День только еще начинался — может, и хорошим обещался быть, а доярки, сойдясь у загона, начинали работу с ругани. Честили на чем свет стоит всех, кто попадался на язык: зоотехника, бригадира, председателя — всю колхозную власть, раз она не хочет видеть, что тут творится. А заодно и проклинали свою работу: с зари до зари тут, ни отгула тебе, ни выходного, люди вон в болото с косами идут, о зиме думают, а им былки для своей коровы сготовить некогда. Набирали из колодца у болота воды, заходили в придворок и тут начинали костерить своих Зорек и Лысух, словно коровы были сами виноваты, что им приходится лежать всю ночь в этом месиве.
Варвара тоже выговаривала своим куда больше того, чем они могли заслуживать. Но кричать, как некоторые доярки, чтоб слышно было на всю округу, она и не любила, и не умела. Мать и отец были спокойные, ни на скотину, ни друг на друга никогда не кричали, и она по природе переняла от них это тихое обхождение со всем живым, а своя жизнь и вовсе сделала ее малоразговорчивой. «Ишь, повыходилась, родимец тебя возьми!» — поворчит она на грязную корову, да на этом и кончит свою ругань, потому как — что ж ей винить Милку или Красотку, если в придворке и метра сухого места нет. Да и то ворчанье, с каким она подходила к своим коровам, было не больше как обычной крестьянской привычкой выговаривать вслух свои замечания скотине — и, конечно, всегда в виде ругани: разве когда угодит корова, овца или поросенок своему хозяину!
Поворчав на корову и погладив ее под шеей, чтоб та приластилась к хозяйке и не задерживала молоко, Варвара подсаживалась к ней на пустой пока подойник, из другого ведра тщательно обмывала водой соски, смазывала их слегка вазелином. Потом меняла ведра: садилась на то, что с водой, а пустой подойник зажимала в коленях и так до конца дойки держала его на весу. Первый звон тугой белой струи в пустое ведро сразу же включал ее в привычную стихию, и потом все эти полтора или два часа мысль ее была занята только тем, что непосредственно касалось работы: подмыть, сделать массаж, выдоить до конца, замерить и слить во флягу молоко — и так двенадцать раз, пока не подоит последнюю корову. Она хоть и ругала в согласии с другими доярками свою работу, но сносила ее легко, как и любую крестьянскую обязанность, вполне возможно, что даже любила ее, но об этом никогда не только не говорилось, но и думать не думалось, потому что работа есть работа, люби ее или не люби — а делай, и о любви к ней говорят одни болтуны или те, у кого к концу дня не стоит колом в пояснице и не скручивает пальцы ревматизм.
...И в тот день было все, как всегда. Но когда она проходила с полным ведром меж коров, одна, — бог уж знает с чего, — мотнула головой и рогом больно ударила Варвару ниже живота.
Она выбралась из придворка и присела на флягу перевести дух. В грязных резиновых сапогах, в старой черной юбке, в черной фуфайке, в черном полушалке, повязанном по-монашески, так, что скрывал весь лоб, — она сидела на белой алюминиевой фляге у входа в придворок и, скрючившись, старалась заглушить боль. Бабы спрашивали, что с ней, она махала рукой на коров — так что понятно было, что произошло, и опять давила рукой ушибленный живот. Постепенно боль отпустила, и она пошла доить оставшихся коров.
Поначалу так и думалось: ничего страшного. Ушиб побаливал, но не так, чтоб уж сильно, и она по-прежнему шла утром к своим коровам.
Правда, держать в коленях на весу ведро с молоком она уже не могла — не давала слабая тупая боль в животе, а так работать вполне можно было. К тому ж, думала она, не век же болеть ее болячке, и, сколько могла, терпела, не просила заменить ее, тем более, что и заменить было некем: за каждой здоровой бабой два с половиной гектара свеклы, их тоже обработать надо. Но к осени ушиб стал болеть сильнее, и ей волей-неволей пришлось уйти из доярок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
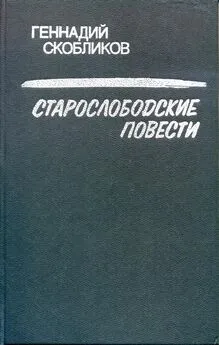
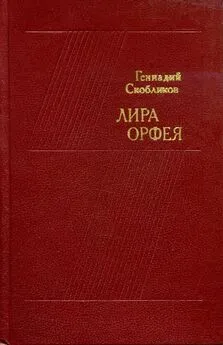
![Геннадий Аксенов - Бажоный [Повесть]](/books/572007/gennadij-aksenov-bazhonyj-povest.webp)
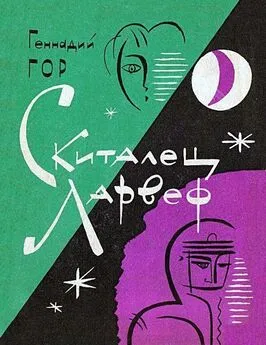
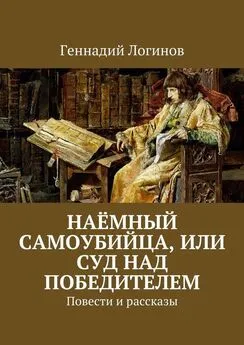
![Геннадий Толмачев - Ради смеха, или Кандидат индустриальных наук [Повести, юмористические рассказы, фельетоны]](/books/1074880/gennadij-tolmachev-radi-smeha-ili-kandidat-industr.webp)
![Геннадий Карпов - Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы]](/books/1148035/gennadij-karpov-shel-ya-kak.webp)



