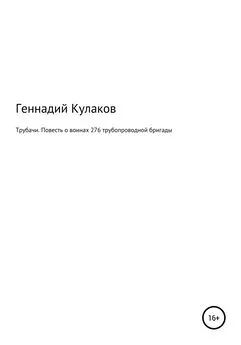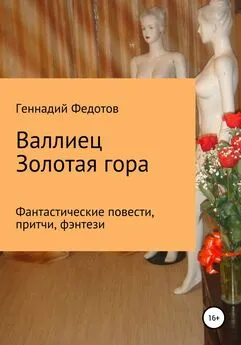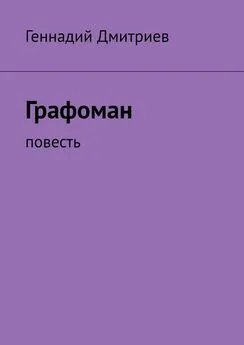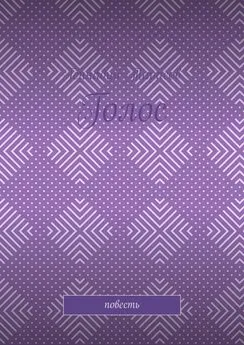Геннадий Скобликов - Старослободские повести
- Название:Старослободские повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1989
- Город:Челябинск
- ISBN:5-7688-0259-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Скобликов - Старослободские повести краткое содержание
В книгу вошли получившие признание читателей повести «Варвара Петровна» и «Наша старая хата», посвященные людям русской советской деревни. Судьба женщины-труженицы, судьба отдельной крестьянской семьи и непреходящая привязанность человека к своей «малой родине», вечная любовь наша к матери и глубинные истоки творчества человека — таково основное содержание этой книги.
Название «Старослободские повести» — от названия деревни Старая Слободка — родины автора и героев его повестей.
Старослободские повести - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пока я осматривался, девочка подошла к столу, покрытому грязной белой скатертью и заваленному бельем, тетрадями и учебниками в желтой оберточной бумаге, переложила с места на место книги, мельком взглянула на себя в квадратное зеркальце, лежавшее тут же, и потом щелкнула черным выключателем на стене. Впервые увидел я нашу хату при электрическом свете. Горница стала как бы ниже и меньше и, напичканная этой мешаниной разноцветных предметов, совсем не напоминала ту в т о р у ю хату, особенно в те вечерние часы, когда по причине экономии керосина лампа горела только в первой хате, а тут топилась лежанка и алый свет заливал земляной пол, густо смазанный желтой глиной и посыпанный золотым песком из-под Русанихи: из глубоких, опасных обвалами пещер на обрывистом крутояре по правой стороне Рати, где самый лучший в округе песок цвета чистого золота с искрящимся блеском слюдяных частиц (мои сестры в компании с другими смельчачками, рискуя собой, забирались в эти пещеры, чтобы, к своему удовольствию, принести два ведра п е с к а и з - п о д Р у с а н и х и!); часто я вспоминаю, как огненный свет из открытой дверцы озарял, бывало, побеленные стены, смотрелся в черные зеркальные стекла окон и, отраженный от пола и белого потолка, попадал в святой угол, играл на иконе, и в его переменчивых бликах строгое лицо богородицы — тут она была одна, без сына Иисуса — как бы переставало быть нарисованным красками: оно словно оживало, хмурилось, светлело, обретало высшее спокойствие... а непреклонные глаза строго следили за нашими детскими вольностями... и я понимал: иконы потому и вешают в углу, чтобы «божечке» была видна сразу вся хата, потому-то, что бы мы ни делали, она всегда все видит и все знает о нас. Теперь тут другие иконы, побогаче нашей — и совсем нелепые в двухметровой близи от стосвечовой электрической лампочки: та же ненужная пестрота, как и цветистые вырезки из журналов...
Не знаю, как мать, но отец никогда не верил — а теперь, прожив жизнь, и подавно не верит — ни в бога, ни в черта, религиозностью в нашей семье и не пахло, — но кто ж его знает! а вдруг! ведь что-то же должно быть? да и кому они мешают? — и в каждой хате висело по иконе, и даже в закутке у коровы висела желтая дощечка с изображением очередной «божечки», но кто там был нарисован, я уж не помню; должно быть, святой Власий — покровитель коров.
Когда в войну мы остались с шестнадцатилетней Марусей вдвоем, у нас иногда ночевала наша бабушка по отцу, жившая у дочери, набожная бабка Саша, к которой у нас в семье никто никогда не питал каких-либо чувств... может, и потому, что и бабку Сашу никогда не трогали наши нужды. Она была крепкая старушка, дожила до девяноста двух лет и до самой смерти охотно отговаривала чемер: сначала три раза читала «Отче наш» («М О Й «Отче», — умиленно, нараспев часто хвастала бабка, — самый правильный, самый сильный, я его у одного божественного человека выучила»; позже, уже студентом, записывая в деревне остатки старинных обрядовых песен, записал я ради любопытства и «с а м ы й п р а в и л ь н ы й, с а м ы й с и л ь н ы й» бабкин «Отче»: «Отче наш, ижи еси на небесех! да святится имя твое; да приидет царствие твое; да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого», — обычный канонический текст!) — и после «Отче» нечто совсем уж невнушительное, что-то вроде: «На море — на окияне, на острове Буяне стоит Дуб-Стародуб; под этим дубом ходит Кот-Котище; Кот-Котище, возьми свой чемерище от такого-то...» Так вот, когда, случалось, бабка Саша ночевала у нас, то перед сном она по целому часу, а может, и больше стояла вот тут, перед иконой, и творила молитвы: в темноте, в длинной белой рубахе, с распущенными седыми волосами перед темной безмолвной иконой... И я, глядя в такие минуты на бабку, слушая, как она увещевает и просит о чем-то бога, почти верил, что он, бог, есть; и не раз старался я разобрать, какими же словами говорит бабка с богом и о чем она его просит, но только отрывки слов долетали до меня, все остальное было что-то нечленораздельное, что опять же давало повод ужаснуться перед всесилием бога, если он сейчас где-то там на небе слышит и понимает все, что шепчет тут в потемках бабка.
Отец в открытую насмехался над набожностью своей матери, — впрочем, как и над всеми верующими. Тем более, что он не любил бабку Сашу, не мог простить ей одних ее слез.
А было так. После женитьбы отец отделился от матери и получил свою часть дубов в наших засеках. Когда стал строиться, не хватило одного большого дерева на матицу, и он сделал сделку с холостым еще братом Степаном: спилил доставшийся Степану большой вяз, а ему оставил на корню два своих дуба. Бабка Саша как великое горе приняла, что вяз достался отделившемуся сыну, и что-то недели две каждый день приходила в засеки, обнимала свежий пень и, как над покойником, голосила в голос.
В войну, во время пожара, отец спас эту вторую хату вместе с потолком, и какая-то из этих вот двух матиц — из того самого вяза, что был так обильно оплакан моей бабкой...
— От вашего тут уже ничего не осталось, — сказала девочка.
— ...Все, милая, осталось, — сказал я. — Все осталось: я ж остался...
А она, эта милая девочка, рассмеялась; так смеются мимолетной шутке.
И опять под тем же мелким холодным дождем я медленно иду по грязной улице нашей Слободки. Я знаю, что за эти три недели, что проживу тут в деревне у сестры, больше ни разу не зайду в бывшую нашу хату: и хозяев ее нечего беспокоить, да и делать, честно говоря, мне в ней нечего.
Все вроде бы правильно... а в то же время мне так, что и теперь, вот только что, я совершил и продолжаю совершать какое-то очередное предательство и перед самой этой нашей старой хатой, что смотрит мне вслед мокрыми черными глазами, и перед всем тем, что связано с нею у меня, у всех моих братьев и сестер, у отца, у покойной матери... мне так, что именно я, самый младший в семье, или должен был навсегда остаться в ней, чтоб не умерла в ее стенах былая н а ш а жизнь, или теперь должен сделать что-то такое, что хоть на какое-то время продлит ее. Но что? что можно сделать теперь, когда жизнь уже сделала свое?
И в то же время я знаю: все эти три недели, что я пробуду тут, я буду как бы ходить по следам той былой нашей жизни... и буду з н а т ь в с е б е, что никуда она, та былая жизнь, не ушла, не исчезла, что вот тут, на этой улице, у этих вот хат, на огородах, на наших дорогах, среди этих вот полей, оврагов и лесов она будет жить во мне как самая настоящая реальность и в каждый миг будет живыми нитями соединена с этой вот нашей хатой, где когда-то мне выпало счастье родиться на этот свет и услышать над своей колыбелью живой голос склонившейся надо, мной матери.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
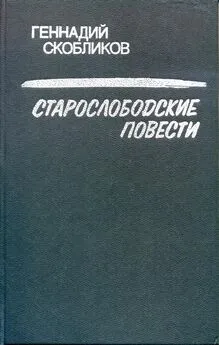
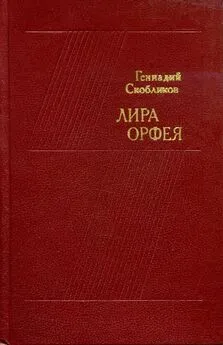
![Геннадий Аксенов - Бажоный [Повесть]](/books/572007/gennadij-aksenov-bazhonyj-povest.webp)
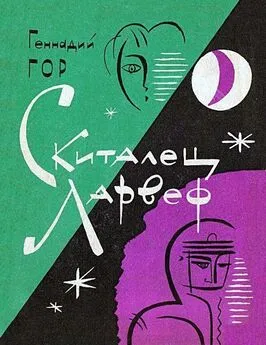
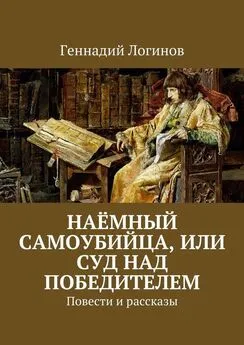
![Геннадий Толмачев - Ради смеха, или Кандидат индустриальных наук [Повести, юмористические рассказы, фельетоны]](/books/1074880/gennadij-tolmachev-radi-smeha-ili-kandidat-industr.webp)
![Геннадий Карпов - Шёл я как-то раз… [Повести и рассказы]](/books/1148035/gennadij-karpov-shel-ya-kak.webp)