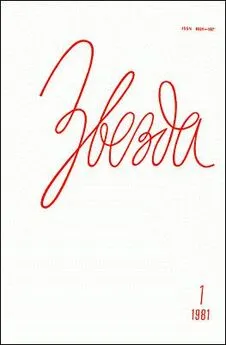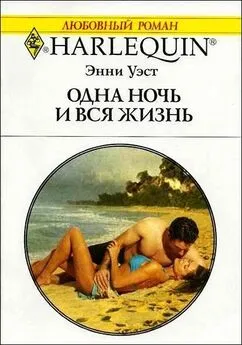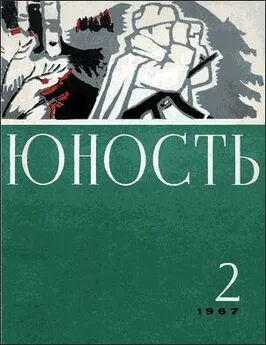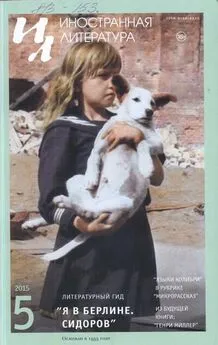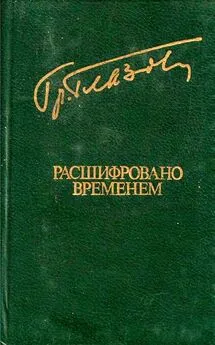Григорий Глазов - Ночь и вся жизнь
- Название:Ночь и вся жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Художественная литература»
- Год:1981
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Глазов - Ночь и вся жизнь краткое содержание
Повесть опубликована в журнале «Звезда» № 1, 1981
Ночь и вся жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Григорий Глазов
Ночь и вся жизнь
От здания вокзальчика уцелело лишь одно крыло, где некогда были буфетный зал, камера хранения и парикмахерская. Гурилев вошел в бывшую буфетную. Сквозь выбитые высокие окна и пустой дверной проем втягивало с перрона сквозняки, они метались, не в силах вытеснить тяжелый многослойный дым махорки и самосада. Война крутила людей по путаным, но определенным и неизбежным для каждого дорогам, сходившимся здесь под временное и ненадежное тепло, спертое от дыхания сотен глоток и живого духа потных, давно не мытых тел. Морозный март загонял сюда людей, долго не знавших ни стен, ни крыши над головой, они вламывались с перрона отогреться и отоспаться, чтоб снова двигаться каждый в свою сторону. Но все больше в одну — к фронту. И все курили, курили, курили, жадно, до ломоты в груди, всасывали дым сгоравшей в газете махры, просили друг у друга «с орок», кто, чтобы убить мутивший голод, кто, чтоб согреться и отогнать сон, боясь проспать первый же попутный поезд. Одни, скоротав день и отоварив продаттестат, спешили отсюда довольные, что на руках санкарта и вскоре их ждут чистая постель и горячая еда в эвакогоспитале: хотелось хоть краткий срок быть себе хозяином в этом сжавшемся времени и сузившемся пространстве, едва умещавшемся между жизнью и смертью; другие торопились к своим, на передовую, после опостылевшей нудьги запасных полков; третьи не спешили, зная, что дивизия в обороне или на переформировке, значит, опять — строевые занятия, харча меньше, снабженцы жируют, покуда начальство не вздрючит. То ли дело в наступлении! Тут и снабженцы взмылены: попробуй не обеспечь едой, портянками, ушанкой или еще чем…
Люди устраивались вповалку на холодном полу, выложенном цветной, истертой за десятилетия плиткой, не замечая лужиц медленно таявшего снега, отвалившегося с подошв сотен сапог и ботинок. Спали тесно, греясь теплом друг друга. Кому не нашлось места лечь, сидели вдоль стен. Запрокинув головы или уронив их на плечи соседа, спали с открытыми ртами, всхрапывая, обнажив кто молодые белые зубы, кто уже изъеденные никотином до ржави или плотно сомкнув губы, посапывали в глубоком по-младенчески сне.
В однообразии серого шинельного цвета и тусклой зелени залоснившихся бушлатов черное драповое пальто, мерлушковый пирожок на голове и пышный шарф Гурилева выглядели странно и чуждо. Да и сам он, устроившийся в овальной мраморной нише, где до войны стояла трехметровая гипсовая скульптура, тревожно чувствовал, как непонятен и случаен он в этом зале.
Место в нише Гурилеву уступил сержант, возвращавшийся в часть после третьего за два года ранения.
— В родные места возвращаетесь? — Сержант поднял белесую бровь, а рыжий глаз его быстро общупал цивильную одежду Гурилева.
— Да нет, командировка вроде, — неопределенно ответил Гурилев.
— Хорошее слово. Мирное, довоенное. Звучит солидно. Когда-то и я ездил из Ростова в Миллерово… Ерхов моя фамилия. Донские мы… Вы по какой профессии?
— Я бухгалтер.
Рыжий глаз снова взблеснул под бровью и задержался на лице Гурилева, а руки сержанта привычно накладывали плотные ровные витки обмотки над ботинком.
Выбритый, опрятный, несуетливый, сержант виделся Гурилеву человеком бывалым. Таких война протащила по окопным извивам, обмяв сырыми углами, стенками, проволокла по колдобинам своих дорог, внушив, что работу, в какую она впрягла человека, не отменишь, не отложишь на после, значит, пока жив — живи по-людски.
— Я до войны слесарем-наладчиком был. А учился слесарничать знаете как? Зажми, скажем, заготовку в тисочки, приставь зубило, бей молотком, но — чур: на зубило не гляди! По пальцам, конечно, доставалось, но научился, не глядя. Так и на войне надо: дело делай, но и все, что вокруг, охватывай, оно не в разрыве с тобой. «Была не была, завтра, мол, убьют», — это от трусости перед жизнью. А ежели не убьют? — Он аккуратно укладывал в вещмешок тряпичные свертки, жестяную коробочку от монпансье, в которой что-то звякало, мешочек с сахаром, спичечный коробок с солью. Прикрыл все это выстиранным куском портяночной фланели и затянул горловину вещмешка шнурком.
— Вы устраивайтесь на мое место, — сказал сержант, поднимаясь и захлестывая ремнем талию. — Тут, в нише, не так дует.
— А вы? — спросил Гурилев.
— На свежий воздух, — подмигнул сержант. — Не люблю только что освобожденные вокзальчики. Немцы норовят авиацией их прощупать. Так что тоже не засиживайтесь. — Ерхов закинул мешок за спину, примял ушанкой светлые прямые волосы. — Счастливой командировки! — Ловко, никого не задевая, переступая через спящих, пробрался к выходу…
Гурилев окинул взглядом зал. Воздвигнут вокзальчик был еще до революции. Потом, видимо, перестраивался. Но сквозь копоть и пыль выпирала лепка на потолке: крылатые амурчики с пухлыми ягодицами, античные женщины в хитонах. На стене, где был когда-то буфет, тускло мерцали остатки огромного зеркала, а на широкой буфетной стойке, накрывшись одной шинелью, спали два солдата, выставив белые широкие босые ступни с коричневыми пятнами давно истертой на суставах кожи…
Гурилев просидел в нише более часа. Дремал, думал, вяло сжевал кусочек жилистого сала с зачерствелой лепешкой, испеченной в тондыре, купленной женой на базаре как лакомство ему в дорогу… А дорога оказалась долгой, и до места он еще не добрался…
Зал был плохо освещен: лампа под потолком горела вполнакала. И от этого еще гуще казался задавленный махорочным дымом прокисший воздух. Вдруг тихо запели. Не по-русски. Голос звучал медленно, гортанно, вроде без слов. Но Гурилев догадывался, что слова есть. Он вслушивался в переливы мелодии, в мгновенные переходы ее с высоких регистров в низкие, в недоступную ему чужую красоту и смысл песни, который он силился понять, ощутить, приблизить к себе.
И впервые удивился своей беспомощности постичь до конца чье-то желание высказаться…
Он встал, отряхнул пальто и вышел.
На выщербленных плитах перрона стыл размякший снег, раздавленный за день солдатскими сапогами. У дальней тупиковой ветки чернели коробки сгоревших вагонов. Меж их темными ребрами оранжево тлел закат, пробивавшийся сквозь истонченные ветром низкие сизые тучи.
Гурилев побрел в конец. У деревянной будки продпункта переминалась солдатская очередь. Галдели, нетерпеливо топтались, продвигались к окошку медленно, протягивали продаттестаты в его светившуюся глубину. Навстречу высовывались две большие рыжеволосые руки и сбрасывали в растопыренно подставленное нутро вещмешка сухари, рыбные консервы, изморозно белые льдинки крепкого рафинада, пачки спрессованного пшенного концентрата, куски желтоватого жира — лярда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: