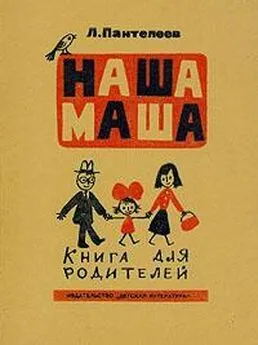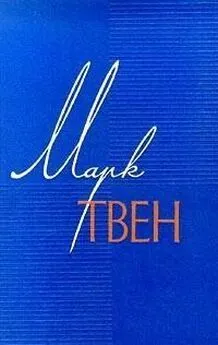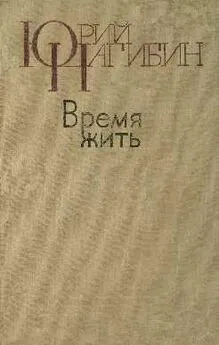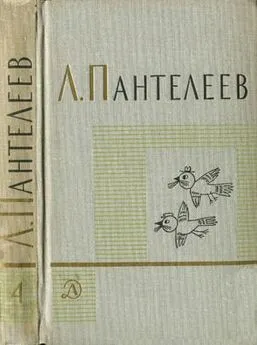Л. Пантелеев - Том 4. Наша Маша. Из записных книжек
- Название:Том 4. Наша Маша. Из записных книжек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1984
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Л. Пантелеев - Том 4. Наша Маша. Из записных книжек краткое содержание
В настоящее четырехтомное собрание сочинений входят все наиболее значительные произведения Л. Пантелеева (настоящее имя — Алексей Иванович Еремеев).
В четвертый том вошли «Наша Маша» (книга для родителей), «Из старых записных книжек»
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Наша Маша. Из записных книжек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Бабушка, как жалко, что, когда мы немножко больше кушали, я не сплясала дяде.
— А теперь что — не можешь?
— Теперь не могу.
Ей шестой год.
. . . . .
Сосед Маринки по коммунальной квартире — профессор Вериго, известный ученый, радиотехник, сорокалетний холостяк, как говорят, — большой оригинал.
При свете коптилки разглядел его плохо. Грубое, неинтеллигентное лицо. Грубоватый голос. Одет небрежно — в какое-то стеганое полупальто.
Зашел к Маринке, принес ей блюдечко саго с изюмом, сохранившимся у него, по его словам, с 1926 года. Любит детей, катал их еще недавно целой гурьбой на собственной машине. Был богат. В Любани у него будто бы два дома и дача. Все погибло. В том числе три охотничьи собаки.
Сейчас профессор Вериго хочет попробовать делать суррогат мяса, сахара, хлеба из древесных опилок. Услышав об этом, Маринкина бабушка вся просияла, даже задрожала.
— Ой, неужели? Ой, научите меня, Александр Васильевич, умоляю вас, научите!
Вериго — мастер на все руки.
Сказать по правде, после разговора с ним я тоже стал копить опилки. Не сжигаю их, а ссыпаю в большую жестянку из-под монпансье.
Чем черт не шутит. А вдруг… Вчера, засыпая, поймал себя на мысли, что мечтаю о котлетах из опилок.
. . . . .
Начало декабря. Мороз 25 градусов. Очереди, очереди у магазинов. Потемневшие, почерневшие женские лица.
На первую декаду, то есть на десять дней, по рабочей карточке дают: 200 грамм мяса, 300 грамм крупы, 250 грамм «кондизделий». «Дают»! Надо еще найти их и простоять несколько часов в очереди.
Мимо едут дровни, заваленные трупами. Все не поместилось, за дровнями на буксире подпрыгивают салазки, на них что-то бесформенное, перевязанное веревками — русские сапоги, рука…
Бабы в очереди смотрят уже почти равнодушно. Редкая покачает головой.
. . . . .
Зима. Хрипло и приглушенно говорит радио. Слышно, как в паузах голодный диктор заглатывает слюну.
. . . . .
Слухи, слухи. Самые нелепые, неожиданные, неизвестно из каких источников идущие. В Луге — 3 копейки килограмм хлеба. В Петергофском дворце немецкие офицеры устраивают балы и танцуют с «местными дамами».
«Идет Кулик». «Отбили Пушкин». «Взяли Остров».
— Как же так?
— Да вот так. Это уж точно.
. . . . .
Декабрь. Нет угля. Нет электричества. Трамваи ходят только утром и вечером, да и то с перебоями. У нас в квартире уже седьмой день — средневековый мрак и смрад. Окна без стекол, заколочены досками. Сидим с коптилками, в которых горит какое-то духовитое «средство для чистки деревянных полированных предметов».
. . . . .
Поздно вечером — бабы — перед закрытым пустым магазином:
— А что нам с детьми делать? В бочках солить, что ли?!
. . . . .
13 декабря. Сегодня не стало нашего Беляка. Кормили его по мере сил. Блюдечко супа, корочку хлеба получал ежедневно. И все-таки ему было труднее, чем нам. Ему ведь не объяснишь, не внушишь того, что внушаем мы себе и близким… Не на что было опереться его духу — по слову Житкова.
Последние дни всё лез в печку — холодную, с прошлого года нетопленную. Сегодня забился к маме под одеяло и не вылез больше оттуда.
Вчера то же случилось с котом Нины Борисовны.
. . . . .
Кажется, впервые в истории русской православной церкви этой зимой в Ленинграде не служили литургии — за неимением муки для просфор. Служили «обеденку». Что это такое — не знаю.
Написал: «кажется, впервые». Не кажется, а так оно и есть, конечно. Такого лютого глада и мора не знала земля русская ни во времена Батыя, ни позже, ни раньше.
. . . . .
Был вчера на Мальцевском рынке. Зачем хожу туда — не знаю. За деньги ведь ничего не купишь, да их и нет.
Иногда удается выменять коробок спичек на кусок хлеба. Спичек у меня много. Благодарить за это должен Михаила Михайловича Зощенко. Как-то летом, кажется в 1938 году, был у него на даче в Сестрорецке. Он тускло и скучно говорил о литературе и, как всегда, оживился, просиял, когда заговорили о болезнях, о медицине.
Сказал, что неврастенику надо чем-нибудь увлекаться.
— Вы ведь, кажется, фотографируете?
— Да. Фотографирую. Но фотограф я совершенно бездарный.
— Тогда коллекционируйте что-нибудь. Ну, хотя бы спички.
И вот, по совету Зощенки, я стал собирать спички. Вяловато, без увлечения, без малейшего энтузиазма, но все-таки за несколько лет один из ящиков моего письменного стола был в три ряда забит спичечными коробками. Большинство из них — со спичками.
Началась война. И неожиданно я стал богачом, шибером.
Потенциальным богачом. По рыночному курсу коробок спичек стоит сто граммов хлеба. Но у кого они есть, эти лишние сто граммов? То и дело меня уговаривают:
— Продай три спички за трешку.
А зачем она мне, эта трешка? Хлеб стоит уже 600 рублей килограмм. Но это только говорят. Сам я никогда не видел, чтобы продавали хлеб или вообще что-нибудь съестное. Только меняют.
И вдруг вижу — идет по улице человек, несет стопочку листов столярного клея.
— Купите, гражданин. Питательная штука. Недорого. По 20 рублей кусок.
— Что это? Клей?
— Да. Столярный клей.
— Спасибо. Склеивать кишки не хочу.
— Напрасно шутите, гражданин. Я вам серьезно говорю. Спасибо скажете. Я и себя спас и всю семью выходил — именно этим клеем.
Уговорил. Было у меня с собой 100 рублей — взял пять плиток. И адрес он мне свой дал:
— Придете еще и попросите.
Дома варил клей — по рецепту, который дал мне этот портной с Мальцевского… Мама смеялась, говорила, что уже сейчас ее тошнит от одного запаха. Запах действительно напоминает сапожную или столярную мастерскую. В общем-то приятный, но аппетита не возбуждающий.
Из одной плитки получилась большая миска студня. Долго не отвердевал, не застывал.
А когда застыл — никакой запах не помешал наслаждению, с каким ели этот чайно-коричневый, аппетитно подрагивающий студень — не только я, но и мама, и Ляля…
. . . . .
Уже полтора месяца не бреюсь. Дал обет — ходить с бородой до окончания войны, до победы. И еще — тоже «обет»: в эту лютую зиму хожу в белых теннисных, из лосиной кожи туфлях.
. . . . .
Перечитываю (после Диккенса) Достоевского. Читал «Дневник писателя». И в самом деле — сколько точного, сколько угадано, сколько прозрений!
Как верно, с какой настоящей, не приторной любовью говорит он о русском народе.
. . . . .
Он же, прозорливец, угадал, провидел, что «в грядущей борьбе плутократии и демоса» католичество, «оставленное царями», станет на сторону демоса.
. . . . .
А это разве не пророчество?
«Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь… На компромисс, на уступочки не пойдет, подпорочками не спасете здания. Уступочки только разжигают, а оно хочет всего… Все это „близко, при дверях“».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: