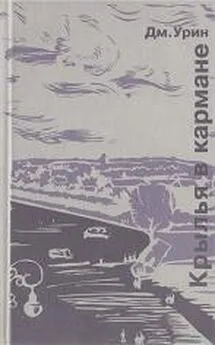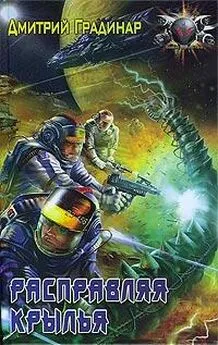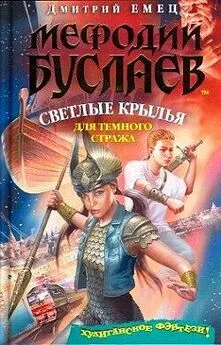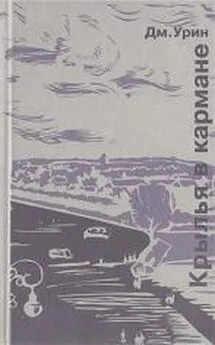Дмитрий Урин - Крылья в кармане
- Название:Крылья в кармане
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Водолей Publishers
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-902312-91-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Урин - Крылья в кармане краткое содержание
Сборник повестей и рассказов необычайно одаренного, но забытого писателя и драматурга Дмитрия Эриховича Урина (1905–1934) выходит через 70 лет после его последней публикации. Литературная деятельность Урина началась многообещающе (его творчество высоко оценивал И. Бабель, которого он считал своим учителем), но была прервана ранней смертью писателя: в 28 лет он умер от неизлечимой сердечной болезни. При жизни Урина вышли лишь несколько его тонких книжечек, ныне являющихся раритетами. Предлагаемое вниманию читателей издание содержит развернутую вступительную статью, в которую вошли документальные и иллюстративные архивные материалы, дающие представление о личности и творческом пути Дмитрия Урина.
Крылья в кармане - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Утром ушли люди с полными чемоданами, взошло солнце, а моя хозяйка все еще колола лучину. Я связал убогий, нищенский узел и отправился подальше от греха. Являться было некуда. Я сам погубил свои жилища — мою Зину, мой сорок пятый номер.
На проспекте играла музыка, но я шел пустынными улицами, бродяжьей душой, божьим именем. Прохожим, верно, казалось, что они давно знают этого разутого христолюбца.
На углу Пологой я встретил Зину. Она опять стояла на моем пути — на углу Пологой и Воскресенской. Я смотрел в ее бессонные сучьи глаза и позволял целовать себя.
— Счастливчик, — сказала она, — мой живой счастливчик! Они пришли через десять минут после твоего ухода.
Она целовала мою колючую шею, но я был, как проклятый. Я молчал.
— Это соседка — это Шереметиха прислала их. Она еще днем говорила, что пришлет убить моего большевика. Но я не впустила тебя, мой живой, мой счастливчик!
— Молчи, — сказал я Зине.
Но она долго еще говорила и плакала навзрыд. Потом она стала расстегивать блузку и, при дневном свете, первый раз в жизни, открыла одну из своих беспокойных грудей. Я хотел закрыть ее и увидел две красных подковы, два следа крупных казачьих зубов.
Сейчас, когда я написал слово «подковы», мне почему-то вспомнились кубанские кони, которые топчут жнивье и давят людей.
ЛОШАДИ КУШАЮТ ОВЕС
Никто не разрушал золотой мебели.
Обе комнаты, находившиеся в мезонине, были в полном порядке, выбивались ковры, мылись стекла книжных шкафов, стиралась пыль и даже сохранялись, извечные здесь, покой и тишина. Как будто если бы люди заговорили громко, стали стучать или кричать, сразу бы исчезла вся диковинная, собранная кем-то обстановка, потемнели и потрескались дорогие картины и слезла бы — со стульев, со шкафов, с массивных бронзированных рам — матовая позолота.
В нижнем основном этаже, где помещался клуб молодежи, давно уже не пахло барщиной и даже лепные нимфы казались здесь честными труженицами, поддерживающими необходимый потолок. А здесь, в пристройке, искусственно, по распоряжению Отдела народного образования, сохранялись в прежнем барском порядке две комнаты: библиотека и кабинет. Уборщица, с пренебрежением водящая веником в нижнем этаже, здесь добросовестно терла полы и подоконники, а два человека: учитель истории Бабицкий и прикомандированный комсомолец Монякин, следили за реквизированными ценностями, переписывали картины, мебель, фарфор и библиотеку.
Учитель был сухощав, движения его, расшатанные и хрустящие, если обращать на них внимание, наводили на мысль о существовании v человека особых шарниров, по которым движутся измочалившиеся, как веревки, сухожилия. Заплаты на учительском пиджаке были закономерны, как будто покрывали какие-то другие свежие заплаты — за пиджачком, за серой на шнурочке рубашкой положенные на иссохшую, морщинистую его кожу. Сидел старик неровно, и волосы его были грязные, пятнистые, как у штукатура после работы.
Широкоплечий, но сутуловатый комсомолец на мир смотрел снизу, исподлобья, согнув шею, будто были у него где-то над глазами сильные бычьи рога.
Оба они в пластических искусствах понимали плохо. Бабицкий знал, что женщина, изображенная на той картине, одета в голландское платье конца 18-го столетия, что фарфор с двумя мечами на обороте саксонский, а без мечей или с другими знаками какой, то другой. За это он считался ученым, экспертом и получал дополнительный, кроме школьного, паек. А Монякин только и знал, что вся эта роскошь принадлежала раньше старому одному человеку, который скупал ее, берег и прятал, чтобы развеять свою личную скупую скуку. Эту роскошь нужно переписать и передать в губернию, в новый музей.
В комнатах было светло. Южные четырехстворчатые окна пропускали много света, и почти отвесное солнце беззвучно, зрительно дребезжало на бронзе и стекле. В солнечные дни даже воздух был здесь бархатным и золотистым. Позеленевшая пыль скапливалась только в углах картин и в пустующих бронзовых чашечках канделябров, и она казалась необходимой здесь, уютная пыль — старая жилица в этой утвари.
Учитель приходил раньше и в клубе поджидал Монякина, у которого хранились ключи от верхних комнат. Утром в клубных залах было сарайно, мусор, сметенный в кучи, лежал на полу. В одном углу кто-то, громко орудуя молотком, прибивал плакат к стенке, а кто-то другой на белом концертном рояле подбирал песенку, и было слышно раздельно, как стучат его ногти по клавишам и как клавиши стучат по струнам. Ритмичный стук молотка был уверенней и определенней, он все время портил наклевывающийся мотив.
Здесь была жизнь такая, как на улице, как в школе, как у себя дома, настоящая, несбереженная, не сдержанная. Все — даже песенка, даже стук — говорило о хлебе, о фронте, о задачах, поставленных вчера, решить которые нужно сегодня.
Но приходил Монякин, и они шли в мезонин, в музей. В передней сбрасывали зловонные полушубки, не снимаемые ими ни в школе, ни на собраниях, ни в столовых, и без овчины — один в казенной косоворотке, другой в дряхлом пиджачке — входили в комнаты. Учитель, входя, приглаживал волосы, а Монякин поправлял пояс, который оттягивала тяжелая кобура с солдатским наганом.
Все давно уже было переписано, но отвозить в губернию пока нельзя было, в губернии шли бои.
И люди приходили сюда, один как будто для проверок, другой якобы по службе, по привычке, но оба в сущности потому, что хорошо было здесь, скинув овчины, сидеть в мягких креслах за чистыми широкими столами, просматривать старые книги и трогать их. Хорошо было стеречь роскошь и, поправляя кобуру, думать о том, что ты эту роскошь отвоевал для всех — все книги будут в тисненых переплетах, все комнаты будут с солнечными окнами. Хорошо было в этих комнатах беречь какое-то несомненное богатство, которое пришло к тебе неожиданно и временно — заранее знаешь, что временно, — богатство, которого не видел за долгие годы классной сосредоточенной скуки, хронологии, преферанса, холодного чая в учительских на переменках, за долгие годы труда.
Учителю хотелось в этих комнатах играть гостеприимную роль, называть товарища по-французски и хохотать маленьким смехом сытого вежливого человека. Играть хотелось и комсомольцу — провести сюда несколько телефонов и много звонков с кнопками, кричать в трубки, бить кулаками по столу и объяснять товарищу, какая жизнь будет завтра.
Но они стеснялись друг друга и, поедая голодные пайковые нормы, говорили о бандах, окруживших город, о вкусе конины. Они слушали друг друга, вертя в руках бронзовые безделушки или фарфоровые чашечки, на которых голубые пастушки пили сиреневую воду ручьев и золотые деревья высились в глазированных облаках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: