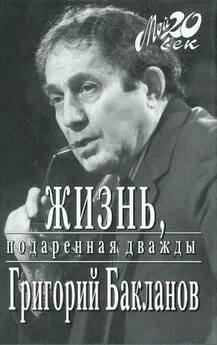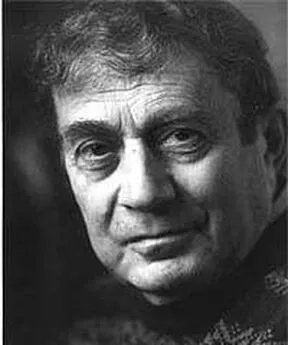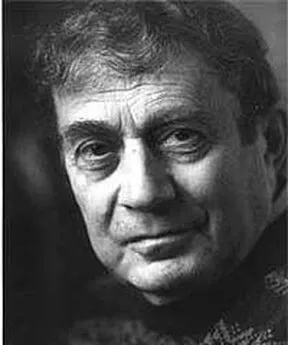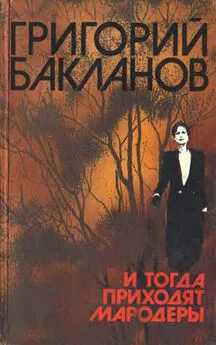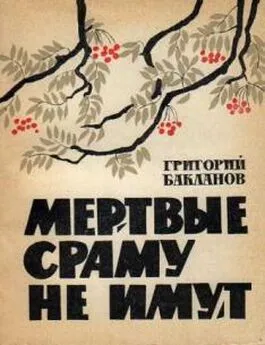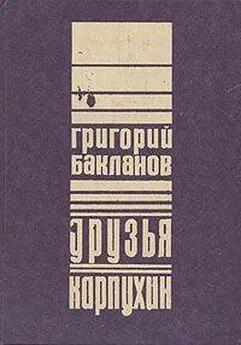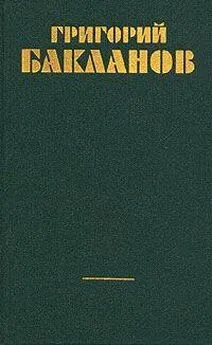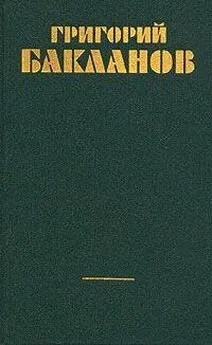Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды
- Название:Жизнь, подаренная дважды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:1999
- ISBN:5-7027-0759-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды краткое содержание
Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.
Жизнь, подаренная дважды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помню, шли мы с ним улицей нашего поселка, он вернулся из Средней Азии, куда уезжал после того, как на него прогневался Хрущев. По этому поводу Борис Полевой, с которым мы оказались в одной делегации в Праге, сказал: «Можете мне поверить, я в этом деле лучше разбираюсь, зря он туда поехал. Не надо было ему уезжать. Зря! Только потерял темп». Не берусь судить, кто из них прав. Но вот Симонов вернулся с новой повестью и, рассказывая о ней, сказал поразившую меня вещь: как он шел к самолету и подумал, что несет в руке сейчас сто двадцать тысяч рублей, потому что повесть его будет издана там, там, и там, и все вместе это даст сто двадцать тысяч. Это были тогда большие деньги, но не для него, человека весьма состоятельного; тем более поразило меня, что, закончив вещь, он оценил ее в деньгах, посчитал, сколько она даст, и говорил об этом совершенно естественно. И все же не из редких встреч и разговоров, которые случались, а прочтя книгу «Глазами человека моего поколения», я, как мне кажется, понял Симонова. Можно не уметь написать психологию героя, не владеть этим даром, но о себе ты вольно или невольно рассказываешь и то, что, может быть, не хотел бы рассказать. Конечно, это были не глаза поколения, это увидено глазами человека, приближенного Сталиным, испытавшего и страх, и сладость быть приближенным. А ему казалось, что он рассказывает о Сталине такое, что при своей жизни напечатать не решался, не мечтал и оставлял в столе как завещание.
Однако мы печатали и то, чему суждена была совсем недолгая жизнь. По ошибке? Нет, сознательно. Это не значит, что мы не ошибались. Ошибались. Не раз. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но в памяти у меня был опыт войны. Перечитайте публицистику тех лет. Очень немногое сохранило свое значение настолько, чтобы сегодня это было интересно прочесть. «…Умри мой стих, / Умри, как рядовой…» И злободневное умирало, но оно помогло победить. Вот и теперь оно должно было помочь победить.
А время было странное: всеобщая эйфория и всеобщая, все возраставшая неуверенность, тревога. Великое дело начиналось, как мы теперь видим, на авось. Сели, сохраняя ранг и чин (тут тоже свои сложности: как бы кто кого не пересел поближе к главному, с древнейших времен это у нас ведется), но все же сели, разобрались, главный взял в руки вожжи шелковые: «Н-но!..» И покатили славно. А как тряхнуло на первом ухабе, тут-то и оказалось, что и думают врозь, и, что делать, толком не знают. Главным представлялось стронуть приржавевший маховик, раскрутить его, а дальше пойдет, само пойдет… Но у жизни — своя логика, и она сильней логики людей, убежденных, несомненно, что они прочерчивают пути в истории, движут и направляют.
Да, в жизни отдельных людей и даже миллионов эти люди бывают всевластны, к несчастью, это так. Но много ли дел в нашем XX веке завершилось, как было предначертано? Ни одно! А вот какой-то незапланированный Норберт Винер (тысячи таких уморено в гитлеровских, в сталинских лагерях, вспомним хотя бы нашего Вавилова, а юные гении, которые и слова своего сказать не успели, им вообще несть числа), вот этот самый Норберт Винер, отец кибернетики, хотя создатель ее не он один, «лженауки», как нас учили, они изменили лицо мира, а как оно изменится в дальнейшем, к чему все это приведет — неведомо, и нет таких, кто на грани века уходящего и нового века, который скоро воссияет над горизонтом, могли бы уверенно предсказать будущее. И, при всех блестящих успехах науки, не ждет ли мир новое одичание? А уж невежество, предрассудки, пережившие столько веков, можно не сомневаться, переживут и следующее столетие. Пока что при свете разума они сгустились еще мрачней.
Осознать свой век, самих себя, кто мы, когда, где сбились с пути, что ждет нас всех, что с нами происходит, осознать и в публицистике, и в критике, и в поэзии, а главное — в прозе, вот это с самого начала было одной из главных задач журнала. Но странное дело: вроде бы упала завеса с глаз, раскрывались многие тайны, о происходящем ныне пишут довольно свободно, а вот те вещи, которые были раньше запрещены, их напечатать — каждый раз как на стену каменную натыкаешься. Странно? Ничего странного. Вроде бы и горячо, и злободневно то, что на глазах пеклось, подавалось газетами с пылу, с жару, но мысль не минутную, мысль современную, глубокую, охватывающую и вчера, и сегодня, провидящую завтрашние беды, содержали в себе те книги, что создавались под прессом, отстоялись за эти годы и уже не подвластны веяниям. Понимали ли это наши запретители? Вряд ли. Но нюх, инстинкт, чувство самосохранения вполне заменяли им ясное понимание.
Помню, на приеме в американском посольстве, верней, в «Спасо-хаузе», где и происходили обширные приемы, в шумном круговращении разноязыких людей, стоял одиноко у белой колонны Георгий Владимов, заложа руки за спину и придавив их собой. К нему подходили, разговаривали мимолетно, отходили. Он был еще здесь, в Москве, но уже и не здесь. Как после он сам напишет, перед ним поставлен был выбор: или уехать из страны, или — лагеря, то есть медленная смерть: он только-только перенес инфаркт. Вот таким он долго оставался у меня в памяти. У нас не было с ним никогда особо близких отношений, но он написал одну из лучших книг в нашей литературе: «Верный Руслан». И хоть сказано было грозно: «Хватит нам собачатины!» — я знал, эту книгу я напечатаю.
Классика неприкосновенна, она уже как бы расставлена на полке рукой всевышнего, и не властная воля людей, а время дополняет этот ряд. Но для меня было несомненно, что книга Владимова, имевшая подзаголовок «История караульной собаки», — в том ряду, который начат бессмертным «Холстомером» Толстого, где «Изумруд» Куприна.
День, когда привезли из типографии сигнальный номер журнала и я взял его в руки, и раскрыл — Георгий Владимов. Верный, Руслан, — этот день для меня и для нас для всех был праздничным. Мы сделали то, что обязаны были сделать.
Гласности, главному достижению так называемой перестройки, еще и двух лет не исполнилось, когда по ней был нанесен первый удар: ввели лимит на подписку. В сущности, это было не так уж нелогично. Бюджет страны, подорванный сначала антиалкогольной кампанией, потом всеми остальными безграмотными действиями, трещал, полки магазинов пустели, ясной стратегии в экономике пока что не прорисовывалось, и обещания оставались обещаниями.
Мы вступили в войну без полководцев. Жуков, Василевский да еще выпущенные из лагерей на свободу Рокоссовский, Мерецков… Сорок три тысячи офицеров, генералов и адмиралов было арестовано, посажено в лагеря, расстреляно. Армия была обезглавлена, наши полководцы учились воевать и вырастали на войне, за это заплачено солдатскими жизнями, счет которым бог весть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: