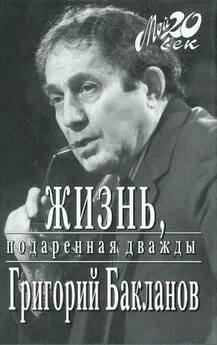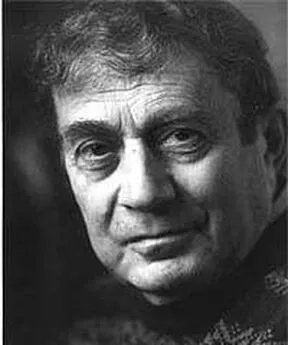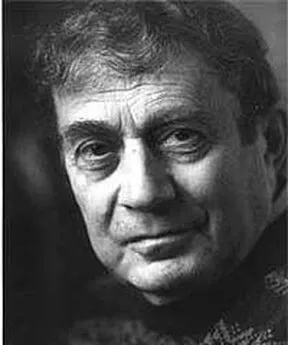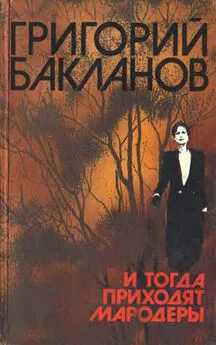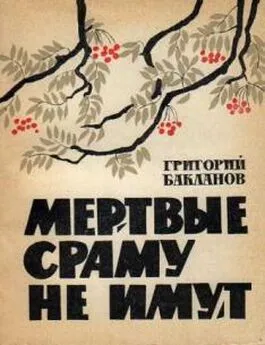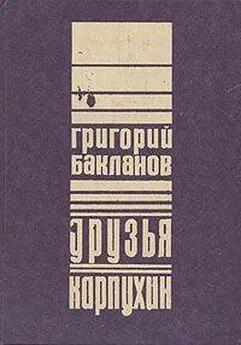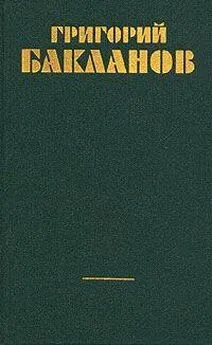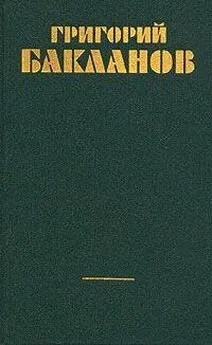Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды
- Название:Жизнь, подаренная дважды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:1999
- ISBN:5-7027-0759-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды краткое содержание
Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.
Жизнь, подаренная дважды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Максимум — пять!
Мне и пять-то казалось много. Думалось: вот налажу дело и года через три передам журнал Лакшину.
Никогда бы не поверил в то время, что придется мне семь лет жизни отдать журналу. Выдержали мы и давление цензуры, и чем трудней проходила вещь, тем радостней было, когда напечатаем. И гордость появлялась за журнал, неведомая мне прежде.
Выдержали мы два суда — Московский городской и Верховный суд России, — когда решили избавиться от опеки Союза писателей. Но и в это время я все же пытался писать. Бывало, встанешь пораньше, пройдешься по саду, сядешь за стол — хорошо! И вдруг вспомнил: а вот эти документы еще представить бы в суд… И пошли-поехали мысли в другую сторону.
И все же… Все же это были хорошие годы: и работалось с азартом, и было ради чего. А какую литературу печатали! И писем в журнал шло столько, что один учетчик не справлялся. Журнал прибыльный, подписчиков — миллион, еще и библиотечку издаем знаменскую. О чем, казалось бы, беспокоиться? И вдруг цены понеслись вверх. Бумага, типография, доставка почтой — все стало непредсказуемо. И такое хищничество проснулось в людях! Не заработать (заработать надо уметь), а сорвать с ближнего. А нам брать не с кого. Подписчик уплатил за год вперед и знать ничего не хочет. И прав. Сойдемся, бывало, у меня в кабинете — Чупринин, Наталья Иванова, Гербачевский (тогда еще у редактора было три зама) да Евгения Александровна Кацева, надежнейший ответственный секретарь, — и вот примемся считать да «умом раскидывать». Но куда ни кинь, все — клин. Назначить цену за журнал повыше — читателей потерять. Самых неимущих. Не подымать цену — деньги откуда возьмутся? И до каждого в редакции дошла тревога: зарплату нам никто не платит, сами от себя зависим.
Сейчас смешно вспомнить, как решали мы, собравшись: два с полтиной поставить цену за номер или сразу на три рубля отважиться? Отважились. А месяцев через пять выпустить номер журнала стоило уже полторы тысячи, а читатель получал его все за те же три рубля. Трамвайный билет стоил дороже. Но ничего не поделаешь, мы перед подписчиками на год вперед взяли обязательство.
Умилил меня в эту пору телефонный звонок. Дама — если по голосу внешность представить — холеная, в годах, но живости не утратила. Удостоверившись, что говорит именно с главным редактором, мягко попеняла мне, что на обложке такого-то журнала стоит цена ниже нашей, как же, мол, вы? И не без игривости: раз уж взялись за гуж…
Что ты ей объяснишь? Да и зачем объяснять?
— А вы берите, как колбасу в магазине: по своим возможностям.
Обиделась:
— Слишком амбициозно…
Но стали приходить письма с вложенными в них деньгами. Не так уж много было этих писем, и деньги невеликие, но не дорог подарок, дорога, как говорится, любовь: в трудный час читатели сами захотели помочь журналу.
Почему-то я не сомневался, что с бедой справимся, не знаю, откуда у меня эта уверенность бралась. Вот только ночью проснешься другой раз, подумаешь, и сон как рукой сняло. И пожалеешь, что бросил курить.
Первым помог нам академик Владимир Александрович Тихонов, ныне покойный. На приеме в Чехословацком посольстве, тогда еще — Чехословацком, он сам подошел ко мне:
— А я ваш давний читатель.
Слово за слово и — «А как в журнале дела?» Пили мы оба пиво, пивичко, а под такой разговор надо бы что-нибудь покрепче. Он — экономист, ему и без моих объяснений все понятно.
— А вот сведу я вас, пожалуй, с Боровым. Не знакомы?
Боровой Константин Натанович возглавлял тогда РТСБ: Российскую товарно-сырьевую биржу, самую мощную. Мы встретились у меня на даче. И появилась на уголке журнала, на обложке, маленькая ленточка, в середине — знак РТСБ. Вряд ли биржа так уж нуждалась в нашей рекламе, но мы за эту крошечную ленточку получили большие деньги. Сразу. И на какое-то время нас это спасло.
Однако что-то надо было решать в принципе. Повторяю, была у меня странная уверенность: «Знамени» помогут. Но не побираться же от случая к случаю. Каковы они, законы нарождавшегося рынка, мы понятия не имели, но уже звучало уверенно: ничего, ничего, слабые вымрут, уступят место сильным… Ну примерно как у Иудушки Головлева в сладостных его мечтах: вот если бы у соседа все коровы пали, а мои коровы стали бы давать молока вдвое… Но речь о культуре. Что радости, если выживут один-два журнала? Слезы горькие.
Собрались мы вчетвером в «Дружбе народов». Журнал этот тогда возглавлял Руденко-Десняк. Итак — Ананьев, Залыгин, Руденко-Десняк и я. Пожаловались друг другу в меру сил. Однако был у меня план, который я предложил на пробу: помогать сейчас надо в первую очередь библиотекам. Почему библиотекам? Да потому, что цены растут непредсказуемо, наши читатели — не миллионеры, большинство из них вскоре на журналы подписаться не смогут. И у библиотек денег на подписку не будет. Вот поэтому надо как-то организовать помощь библиотекам. И сразу три проблемы решим: читатели, особенно — нищие наши интеллигенты, смогут хоть в библиотеке прочесть журнал. Соответственно и тиражи журналов не так резко упадут. И писателям будет где печататься. Молодых, неизвестных какой частный издатель решится издать себе в убыток? А толстые литературные журналы всегда открывали новые имена, с их страниц входили в литературу.
Честно говоря, большого энтузиазма мое предложение не вызвало. Прошло время, молчат редакторы. Решили выживать поодиночке? Ну что ж, бог им судья.
И вот однажды ужинаем мы в фонде с Джорджем Соросом. В свое время, когда он создавал свой фонд «Культурная инициатива», нас познакомила переводчица Нина Буис, она переводила мою повесть «Навеки — девятнадцатилетние» для американского издательства. Сорос пригласил меня стать членом правления фонда. Он знал, что я отказался быть депутатом Верховного Совета, если не ошибаюсь, в том, первом, правлении я один только был не депутат. Знал он, что со временем я собираюсь оставить журнал, такой разговор у нас с ним был.
— Вам будет скучно, — сказал он, — вы лучше сделайте так: неделю не появляйтесь в журнале, пишите, за эту неделю соскучитесь, и вам захочется в журнал.
Но то было в хорошую пору, а как мог я оставить журнал сейчас? Это, помимо всего, и судьбы людей, с которыми я работал. И вот, поскольку фонд наш — «Культурная инициатива», я рассказал ему свой план.
— Пока что я плана не вижу, — сказал Джордж Сорос.
Ну что ж, он не видит, значит, надо попробовать доказать. Я попросил знакомую мою, заместителя директора Ленинской библиотеки Морозову, посоветовать мне четырех человек. Фонд заключил с ними трудовое соглашение, дал технику, и в двадцать пять тысяч библиотек России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Прибалтики направили мы список из восьми толстых литературно-художественных журналов. Условия были простые: библиотека может выбрать любые три журнала из списка, подписывается на месяц, а пять месяцев получает бесплатно. Но и те деньги, которые библиотека платит, пойдут не фонду, а на доставку от коллектора до места. Распространять решили через коллекторы: «Роспечать» уже просто грабила подписчиков. Интересно, что ни одна библиотека не подписалась на три журнала. Подписывались, как бы не поняв, сразу на все восемь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: