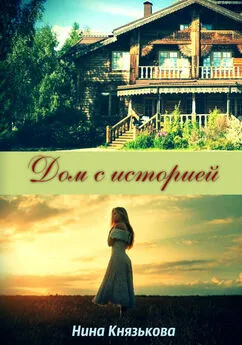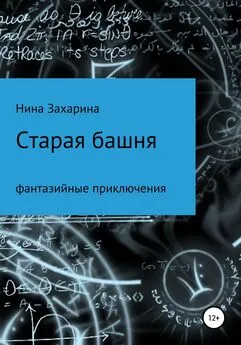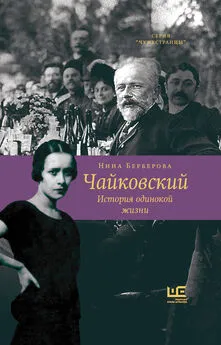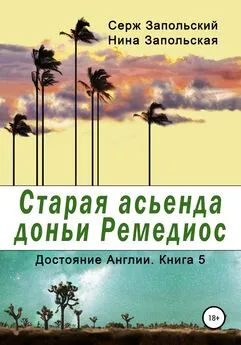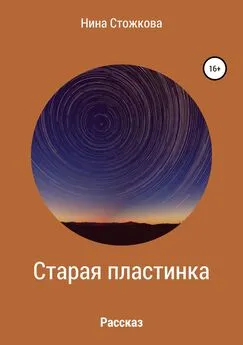Нина Буденная - Старые истории
- Название:Старые истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Буденная - Старые истории краткое содержание
Вошедшие в книгу рассказы, основанные на личных воспоминаниях прославленного полководца С. М. Буденного, — это не история гражданской воины, не боевой путь легендарной 1-й Конной армии. В их основе — случаи из жизни, иногда веселые, иногда грустные, которые не могут стать материалом для исторических исследований, но которые делают зримыми, реально воспринимаемыми события славных лет возникновения и становления Советского государства.
Повесть посвящена сегодняшним дням и рассказывает о двух днях из жизни деловой женщины.
Старые истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Через несколько дней звонит. «Простите, — говорит, — Семен Михайлович, я погорячился. Хотелось бы закончить портрет». «И вы меня простите, — отвечаю, — я тоже погорячился. Даю слово больше не вмешиваться в вашу работу». «И правильно сделаете, я же не пытаюсь командовать Московским военным округом». Помирились. Кстати сказать, портрет его работы считаю самым лучшим из своей иконографии. Так к Мешкову проникся, что долго стеснялся спросить, отчего он наградил меня голубыми глазами при моих в общем-то желто-карих? Все-таки полюбопытствовал. «А потому, — отвечает, — что душа у вас светлая». Такое объяснение меня устроило.
Но в двадцать втором году я был моделью еще неопытной, Жураховского слушался. Да и то сказать, он был только вторым художником, которого я видел живьем. Хотя не уверен, что первого можно назвать таким высоким званием. Потому что в основном он подрабатывал у нас в станице по малярной части.
Однако раз тому дали очень серьезный заказ — расписать алтарь местной церкви. Так он вместо божьей матери изобразил свою даму сердца. Пришли люди в поновленный храм и ахнули: «Да тэж Фатына!» Но на колени встали и давай на Фатыну креститься, а та лихая была бабенка! Долго потом вся станица хохотала.
Уже осень настала. Тут Жураховский мне и говорит:
— Все, Семен Михайлович, закончил. Можете посмотреть.
Я глянул — и волосы дыбом.
— Вы серьезно считаете, что это я?
— Безусловно, я вас таким вижу.
— А чего же рожа-то вся перекошена?
— Это я в таком направлении работаю. Так сказать, расчленяю форму. В этом портрете все — и мое мировоззрение, и отношение к миру, к нашему тревожному, бурлящему времени. Вы сами-то это ощущаете?
— Бурлящее время я ощущаю, — согласился я и потер плечо, в котором сидела невынутая пуля и пока что частенько давала о себе знать. — Раз я таким вам вижусь, пусть так и будет.
Зашел как-то посмотреть на работу Жураховского Ворошилов. Походил вокруг, потоптался и говорит:
— А хорошо бы найти какого-нибудь художника, который нарисовал бы по-настоящему реалистические портреты наших лучших бойцов и командиров. А что? — Ему, видно, самому очень понравилась эта идея. — Пусть потомки наши знают не только фамилии героев, но и их лица. Прошли времена, — все больше вдохновлялся Климент Ефремович, — когда художники на века запечатлевали великих мира сего — самодержцев, их сановников, чад и домочадцев. Народ — хозяин жизни, и портреты народных героев, их вождей должны висеть в лучших музеях мира.
— Эк куда хватил, Климент Ефремович, — попытался я приземлить его. — У нас армия без штанов, а мы будем картины писать. Недаром бойцы смеются — когда в плен берут, кричат не «Руки вверх!», а «Снимай штаны, сдавай оружие!». Трофейные галифе, отрезы выдаем вместо орденов, как самую ценную награду. На столе президиума после собрания сукно кумачовое нельзя оставить — стянут и портки выкроят, да еще лампасы серебряные пристрочат, чисто клоуны в цирке. Даже моего авторитета не хватает, чтобы покончить с этими краснопорточниками. Как ни убеждаю, что алый цвет революции в душах и в делах наших должен быть, а не на штанах, — не помогает. При такой нашей скудости не рано ли думать о парадных портретах, расточать время в комплиментах?
— Нет, Семен Михайлович, ты рассуждаешь неправильно, — остался при своем Ворошилов. — У нас должны быть и армия и искусство. А то потом хватимся, да поздно будет. Разойдутся по домам люди, займутся мирным трудом, время остудит накал гражданской войны, и память начнет присыпаться пеплом догорающего огня. Появятся иные заботы, не менее важные, и отвлекут и уведут. А забывать нельзя. Портреты нужны.
— Не зазнаемся? — смеюсь.
— Вроде не должны… Да чего ходить далеко,- — обрадовался удачному воспоминанию Ворошилов, — хроникеры-синематографисты приезжали, бои снимали, вручение нам знамени ВЦИК. Плохо ли? И нам память, и потомкам наставление.
Действительно, когда мы вели бои на подступах к Крыму, приехал в Конармию кинооператор Эдуард Тиссе. Молодой, живой, энергичный, он метался со своим киноаппаратом с позиции на позицию, шел в бой на тачанке, снимая яркие, живые, захватывающие своей правдой кадры.
Дела наши военные тогда складывались не очень. Если в двух словах, то примерно так: планом операции по Южному фронту предполагалось отрезать врангелевцев от Крыма, не допустить их на полуостров и разбить здесь, на материке, до начала зимы.
На мой взгляд, операция была переосложнена, многоступенчата, общий успех ее был реален в том случае, если каждое звено точно и полностью выполнит поставленную перед ним задачу. Контрпредложения руководства 1-й Конной приняты не были — поздно.
Ну а потом, как это, к сожалению, случалось, один что-то не рассчитал, другой переоценил силы противника и сменил направление, третий поздно спохватился, а четвертого вообще побили. Так и вышло, что единственной преградой на пути в Крым основных сил Врангеля оказалась 1-я Конная армия, да и та не целиком. Потом, конечно, скажут: Врангеля в Крым пропустила Конармия. Да только это досужие разговоры, военная история в этом уже разобралась.
Я к тому, что настроение у меня было не из веселых, приходилось думать и думать.
Как бы хорошо ни была организована операция, в какой бы рассекретной тайне ее ни держали, а только началось ее осуществление, пришли в движение войска, завязались бои — все это попадает на карту, фиксируется, размечается, и через какое-то время только дурак не поймет всего твоего хитроумного замысла. Если, конечно, ты каких-нибудь сюрпризов не приготовил.
У нас сюрпризов не было. И повалила на нас рать Врангеля, который успел собрать все силы в кулак и с танками, броневиками ринулся на Конармию.
Эх, сколько замечательных людей мы потеряли в этих боях — бойцов и командиров. Я сам сколько раз людей в атаку водил — не дело это для командарма, да другого не оставалось.
Климент Ефремович чуть не погиб. Возглавил эскадрон — и в бой. А сам, как всегда, с наганом. А его на пику. Да, слава богу, он бурку надел. Она на скаку как-то крутанулась, пика в ней и завязла.
Красноармеец у нас один лихой был, Ваня Шпитальный. Он этого, с пикой, из пистолета свалил, жизнь Клименту Ефремовичу, считай, спас, потому что от такого удара и с коня слетишь, и если не убитый, то тут тебе все равно конец: затопчут, зарубят, застрелят, заколют.
Непростой человек был Ваня Шпитальный. Это он вынес из расположения белополяков тело убитого Олеко Дундича, коня его привел и оружие захватить не забыл.
Так и хочется сказать: «Да, были люди в наше время». Только неправда это. Такие люди были, есть и будут, они не переводятся. И именно они — лицо нации.
А Климент Ефремович вообще сорвиголова. Такой вроде бы уравновешенный, выдержанный, осмотрительный, рассудительный. А как до дела дойдет — куда там!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
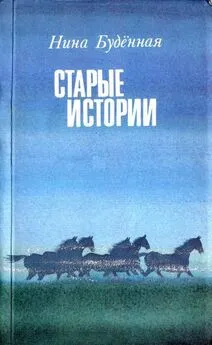
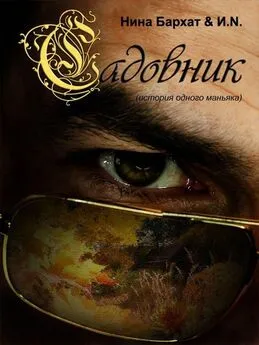
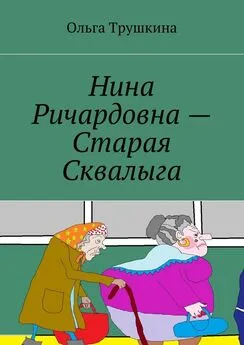

![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/1144472/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni.webp)