Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Т. 2.Тугой узел. За бегущим днем
- Название:Собрание сочинений. Т. 2.Тугой узел. За бегущим днем
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Т. 2.Тугой узел. За бегущим днем краткое содержание
Во второй том Собрания сочинений В. Тендрякова вошли романы, написанные им в ранний период творчества: «Тугой узел» (1956), «За бегущим днем» (1959).
Собрание сочинений. Т. 2.Тугой узел. За бегущим днем - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Двери скотного распахнуты на обе створки. Яркий солнечный день. Сияют подсохшие бревна стен, а провал дверей настолько черен, что кажется, сама ночь, съежившись, уплотнившись, спряталась от света под крышу коровника, и воздух там, не в пример наружному, легкому, сдобренному свежей сыростью, должно быть, тяжел, густ и вязок, как смола.
Из черной глубины на солнце одна за другой выходили коровы. Вместе с отощавшими, покрытыми клочковатой бурой шерстью (самая пора линьки) телами они выносили застойный запах навоза и парного молока.
Кончилось многодневное заточение. Тесные стойла, мятая солома под ногами, низкий, серой побелки потолок вверху, днем сумеречный свет через мутные оконца, ночью лампочки тусклого накала, слежавшееся, дурно пахнущее пылью сено — все это позади. Впереди — сочная, смоченная росой трава, тень в густом ельнике, речки с теплой водой, где можно стоять по брюхо и лениво отмахиваться от слепней…
Только самые первые шаги выходивших коров были одинаковы. Шлепая клешнятыми ногами по талой земле, они делали шаг, другой и останавливались, ослепленные сверканием луж, ярким небом, оглушенные запахами, склонив головы, тупо глядели перед собой. Но через секунду каждая из коров по-своему выказывала свой характер. Одна так и стояла до тех пор, пока следующая корова не наталкивалась на нее, после чего делала два-три неуверенно пьяных шага и снова застывала в недоумении. Другая, подняв голову, разражалась прерывистым, рыдающим мычанием — и не понять, радуется она горячему солнцу, весеннему дню, свободе или это ее тревожит, В третьей вдруг сказывалась непокорная кровь диких предков — хвост на спину и неуклюжим, взлягивающим галопом вперед, подальше от темных дверей скотного. Вслед ей слышались крики скотниц:
— У-y, очумелая! Сдурела!
Только старая корова Барыня с загнутым на лоб рогом, виляя тощим выменем, прошла без задержки, остановилась у кучи снега и сразу же дремотно смежила седые жесткие веки. Ее не тронул ни пьянящий запах талого снега, ни обмытый льющимися с неба лучами сверкающий мир — тепло, и ладно… К ней на спину сразу же спустилась галка, повертела хвастливо головой, прыгнула раз, другой, принялась выклевывать линялую шерсть. Барыня не повела калеченым рогом.
Игнат Гмызин лишь молча протянул подошедшему Павлу руку и отвернулся, продолжая наблюдать. Ярмарочно-праздничный шум у скотного и славный день не трогали его, жиденькие — золотистый цыплячий пушок — брови насуплены, нижняя толстая губа презрительно выпячена, подбородок спрятан в расстегнутый ворот ватника.
Павел спросил:
— Что сердит? Этаким пугалом стоишь.
— Веселиться нечего. Иль тебе картина эта нравится? — Игнат указал глазами на толкущееся стадо.
— Ну и что? Коровы коровами, как и всегда после зимы, шелудивые немного.
— Что шелудивые — не беда. Мне на них не парадные выезды делать. А ты укажи хоть одно хорошее вымя.
Павел окинул взглядом коров — мелковаты, брюхасты, узкокостны в крестцах. У ближайшей вымя сжато в кулачок.
— Не породистый у нас скот. Верно.
— Я людей измучил на силосе. Не хвалясь скажу — сокровища накопил. А для кого старался? Для этих кошек. Они — племя прожорливое, мастера добро на навоз переводить… Куд-ды, тварь слепая?! Хмель в дурную башку стукнул!
Одна из «прожорливого племени», молодая пестрая коровенка, пронеслась мимо; если бы Игнат не отскочил, чего доброго, сбила бы с ног.
— Не знаешь, скоро кончат нас обещаниями угощать? — спросил Игнат, наблюдая, как неутихающим наметом удаляется корова. — Иль обещанного три года ждут?
— На неделе в области должно собраться совещание по животноводству. Скажут… Ты тоже там должен быть.
Игнат только хмыкнул неопределенно, оборвал разговор:
— Что ж, едем в Кудрявино?
Они направились в деревню.
Перед самой деревней — широкий пустырь. В позапрошлом году здесь росли крапива и репейник, кое-где торчали кусты можжевельника да березовые пни, обливавшиеся весной пузырящейся розовой пеной. Теперь среди нестаявших, обдутых сугробов поднимаются дощатые шатры, укрытые толем, сам пустырь походит на мрачный, покинутый цыганский табор. Под каждым шатром — яма. В них хранится силос разных сортов, разных качеств. Каждый сорт среди колхозников имел уже свое прозвище: силос из гороховой зелени — «медок», то есть сладкий; силос из подсолнуха — «соломат», то есть вкусен и сытен; силос из крапивы и веток был груб и звался «тюрька».
Игнат обернулся к Павлу.
— Вот ежели не разведу вместо теперешних навозных скотинок добрых коров, то со всем этим хозяйством, — Игнат обвел рукой ямы, — буду смахивать на голодную мышь, которая умостилась на банке свиной тушенки: под ней целое богатство, а попользоваться нельзя. На кой черт невесте наряды, коль рыло корчагой… А вот и Сашка, — перебил себя Игнат, вглядываясь в конец улицы. — Эге-гей! Сю-юда!.. Вьюн парень. Увернется — потом ищи днем с огнем по углам.
Павел почти всю зиму не встречался с Сашей Комелевым. Бросалось в глаза не то, что тот раздался вширь, что старенький пиджачок (хотя и было по-весеннему холодновато) тесен в плечах — удивляли непонятные, неуловимые перемены в лице: черты его стали как-то тверже, — может быть, потому, что четче вырисовывались брови, иными стали и глаза — раньше чистые, прозрачные, они словно бы потемнели.
— Лошадей я уже запряг, — произнес Саша неожиданным для Павла баском.
Он, верно, не в силах был просто спокойно идти рядом: нагнулся, схватил горсть снегу, стиснул его в комок, швырнул в столб оградки, по лицу пробежала досада — не попал, поддел носком сапога старую колесную втулку, отшвырнул, потянулся, сорвал с нависающего дерева голую веточку, размял в пальцах почку, понюхал… Чувствовалось, что для его тела самое тяжелое наказание — перестать двигаться.
— Эким ты молодцом вымахал, — не удержался Павел.
Саша лишь смущенно отвернулся, походя потряс рукой кол изгороди — крепко ли держится. Зато расцвело до сих пор кислое и надутое лицо Игната.
— А чего ж, мужаем… — ответил он за Сашу не без самодовольства.
На плане, что висит в кабинете Павла Мансурова, там, где не тронутая тушью калька означает леса, кое-где можно увидеть кружок с надписью, вокруг него — штриховка полей; все это соединено с остальным миром извилистой, тонкой, как ниточка, линией. Это починки, те деревни, о которых обычно говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Ниточка, связывающая их с миром, — убогая проселочная дорога, доступная лишь ноге пешехода, колесу телеги да гусенице трактора.
Каждый такой починок для районных руководителей — незаживающая болячка. Живут четыре десятка людей на отшибе, попробуй им доставить из МТС комбайны и тракторы, ломай голову над тем, как их укрупнить, к какому колхозу их присоединить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
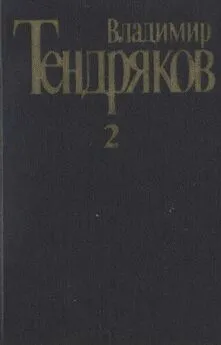


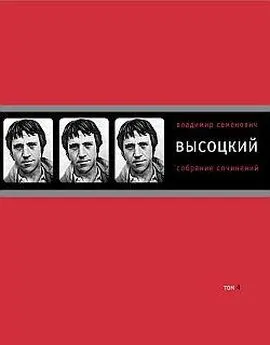
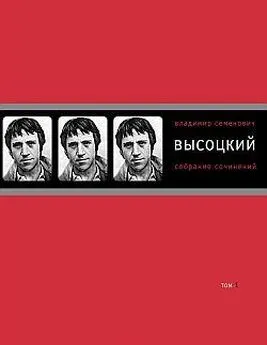
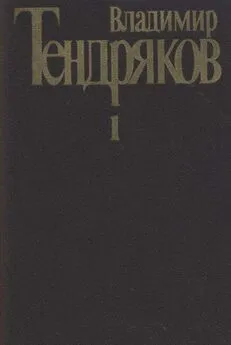
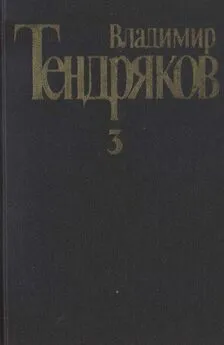
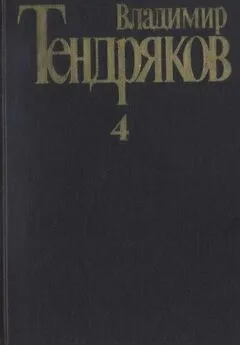
![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/books/446604/vladimir-tendryakov-sobranie-sochinenij-tom-5-poku.webp)
![Владимир Богораз - Собрание сочинений В. Г. Тана. Том восьмой. На родинѣ [Старая орфография]](/books/1070403/vladimir-bogoraz-sobranie-sochinenij-v-g-tana-to.webp)
