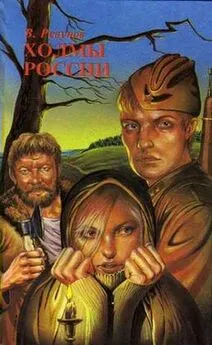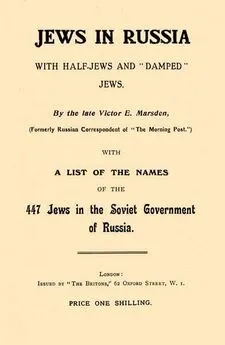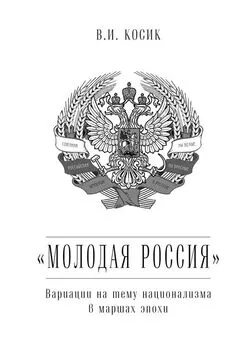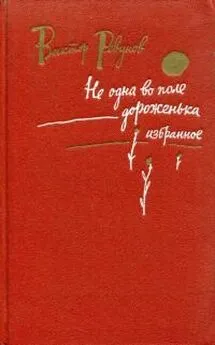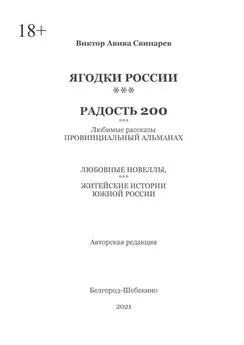Виктор Ревунов - Холмы России
- Название:Холмы России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гурман
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Ревунов - Холмы России краткое содержание
Две книги романа-трилогии советского писателя повествуют о событиях на смоленской земле в 1930–1940-х годах. Писатель показывает судьбы людей, активно созидающих новое общество, их борьбу против врагов Советской власти, героизм в годы Отечественной войны.
Холмы России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Места высокие — возвышенностью, с болотами особыми: в них речкам начало-истоки Днепра, Западной Двины и Угры, текут в равнины бескрайние из смоленских лесов, к трем морям. Какой корешок отсюда или сучок в море-то по волнам и выплывет к скалам далеким.
От кряжистого обрыва, белокаменного и порыжелого, в какой-то травке ползучей с вишневыми цветками, в сосенках, из камня выросших с голубоватой вощиной по хвое, Гордей свернул на вечернюю зарю. Уже гасла ее печь в лесу.
Забылся Гордеи лесом, откуда и куда шел, кто он, — скрылся от всего и отдыхал. Что-то вспоминалось, Месяц водицей колодезной пролился за леском.
Завиднелось. Чернел гнездом двор.
Покружил Гордей, что-то покопал под деревом и — в сторону крадучись. В темноте притаился. За местечком долго приглядывал. На случай, не выйдет ли кто?..
У каждого свое на уме. Да за умом хоронится. Ты так, а оно и не так.
И уж совсем самой тихой украдкой подполз к другому кусту.
Куст этот среди зарослей не отличишь. Зимой — по коре сероватой, весной по цветам ранним-прежде листьев распускаются, по лету-ягодами, яркими, ядовитыми — чем-то и приметно волчье лыко.
Косарем вырезал Гордей дернину. Стеганку снял.
Землю выгребал кружкой и на стеганку высыпал.
Глубоко руку засунул в нору, стеклянную фляжку вытащил. Потер с бочка. Вот они, камешки, не видать, а вдруг замерцают. В них трактир спрятался.
В широкое горлышко перстенек опустил да и, оглядевшись, другой туда же. Ввернул просмоленную пробку в фляжку и снова в норку ее поставил, в кожушок берестяной. Землей засыпал. Сверху дернину уложил, края заровнял. Осторожно ватник свернул, отнес подальше и землю стряхнул.
На куст поглядывал и на двор.
Три года тому назад Дарья Малахова приехала из Москвы хоронить сестру. Схоронила и осталась жить в деревне.
Опрятила сестрину избу, отмыла, отчистила песком полы, у крыльца сирень посадила. За кустом на развалины барской усадьбы ездила. Уж больно хороша сирень, наливная, белоснежная, опьяняла сладостным духом.
Привезла с Нивяного плотника — Федора Григорьевича Жигарева. Знала его давно. Он трактир строил, молодой тогда.
Покрасивела после его топора и рубанка изба, глянула из-под соломенной крыши, как из-под платка, голубыми, ясными глазами — под стать хозяйке.
«Добрых хозяев по избе видно», — давно заметил Федор Григорьевич такую связь, да чего-то с опущенной головой своя изба горевала.
Будто солнечным лугом осветило и хозяйку-по белым ногам ромашками, по сарафану гвоздиками, а по глазам колокольчиковым цветом. Просушило сосновым да земляничным зноем неленивое ее тело. Улыбнулась новому; в трактире разве жила — промаялась, как на чужом возу дорогой: сядь да слезь, не муж, а хозяин — ворон злой.
Еще и стружку не вымели, а Федор Григорьевич засобирался. Положил в мешок немудрой инструмент: топор, рубанок, бечевку мерную.
— Не спеши, — сказала Дарья. — Побудь. Успеешь.
Вздохнул Федор Григорьевич.
— Ребята у меня малые. Митька да Фенька. Душа болит.
— Все ты жалостью. А радостью когда?
Присел Федор Григорьевич на скамейку перед дорожкой.
— Не по летам мне гадать о ней.
— И я не гадала. А вот же и хорошо. Почему, Федор Григорьевич?
— Не знаю, милая. Не знаю.
— Так воля. С нею и радость мне, и жить не боюсь, — просто ответила Дарья. — Будет горько, приезжай.
Федор Григорьевич поднялся, поклонился хозяйке.
— Счастливо поживать тебе.
Зимой Гордей навестился. За порог шагнул в деревенское жилище. Чисто, светло, как и прежде бывало в квартирке трактирной. На окнах занавески цветные.
Самовар на столе красно угасал от заката. За шторами распахнутыми кровать высокая с подушками пуховыми и ковер на стене. На ковре берег лазурный. Заметил Гордей, что хозяйка посвежела и помолодела, суше стала, по жилам его огнем стрекануло.
Обнимать не бросилась. Не водилось это. Снял он шапку. Волосы вороненые, слежались, взгляд жестокий, резкий, с темнистой ненавистью. Усы отпустил — совсем чужоватый в доме и жутковатый.
Раздевался не спеша, к чему-то прислушивался. Все прислушивался. Будто чего-то ждал. Поставил на лавку вещевой мешок, в окно долго за поле всматривался. Развязал мешок. Полушалок белый пуховый достал и опять в окно посмотрел. Лошадка далеко покачалась и опустилась за край.
— Вот, возьми себе на головку теплое, — подал жене полушалок.
Дарья приняла подарок, помяла пальцами бахромки.
Гордей достал из мешка фарфоровый чайник, на стол поставил.
— К самовару, — поднял и обтер рукавом. Золотцем просиял фарфор, синим кобальтом, — Бог даст, и трактир откроем, — пошутил. Голос с мороза басист, крепок — треснул смешком. — В столовках теперь трутся. Людей в квартирку нашу вселили. Примуса на кухню. А гк01ЕЬ! в сараи выбросили. Вот, выбрал.
Гордеи вытащил завернутое в мешковину. На подоконнике положил. Новый подоконник, сосновый, отчищен и лаком покрыт. Как под топким ледком древесный узор янтарный.
— Чья же работа?
— Федора Григорьевича, — ответила Дарья.
— И окошки его? Одно-то, одно дороже золота.
Был раз в этой избе и Митя: обедал по дороге в Дорогобуж.
— Отец не хворает ли? — спросила Дарья.
— Нет, ничего, — ответил Митя.
— Жалей его. Пусть заедет когда в гости-то.
— Не гуляет отец по гостям.
Приехала Дарья сама к Федору Григорьевичу-к зимней могилке его. Слезы вытерла, ветку еловую положила к кресту. Отъезжала в санях, все оглядывалась на рощицу, выше да выше, в холодное небо.
Подгоняло Гордея осенняя ветром к избе. Тяжело заваливало стоном над деревьями, и полем — в деревню — по огородам, по огням. Тускнели и мигали и снова зажигались в окошках.
Постоял он у края леса. Звезды над избой. Стены в ночи тенями гнутся, разламываются.
Лесом зашел за дорогу. Оттуда на избу посмотрел.
В окис не то месяц, не то огонек.
Еще зашел. Как ворон, не сразу слетал и садился. Чего-то чуял… устал, не выдерживал. И вдруг прямо пошел к избе. Постучал в дверь. Еще раз сильнее.
Заглянул в окно. В избе озарило, и по огороду свет.
Отпрянул. Бегут, спешат тени, а будто люди, люди — не разберешь, все к нему. В голове потемнело, и красные пятна перед глазами.
Далеко в лесу опомнился. Наган из-под рубахи выхватил и обвел вокруг.
Поездом брянским, киевским, трамваем одесским поздним, голодный, помученный, добрался Гордей до ворот дома отдыха. Подергал решетчатую калитку, постучал в железо.
Подошел сторож в брезентовом плаще, в нахлобученном капюшоне. Глянул через решетку, сдвинул засов и открыл калитку, впустил Гордея и снова закрыл, пригнувшись, быстро посматривая на улицу.
— Ишь, кавалер обаятельный. Тут всех девок переловил, теперь на Приморском бульваре от него визжат. Я калитку даром открывать не стану. Или в другой раз через забор лезь, а я из берданки солью. Каменной. От нее на заборе до мертвого часа будешь чесаться, — выговорил сторож, он же, еще полный силы и бодрости от морских купаний — Викентий Романович Ловягин. — С украдкой добавил: — Лицо так терять.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: